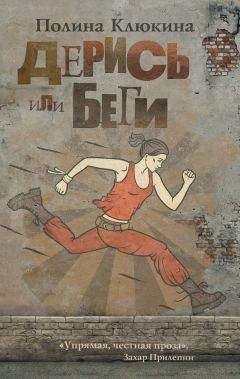Первый класс у Павлика совпал с публичным вопросом президента «Кто есть ху?», очередями за водкой по девять десять с пробкой-бескозыркой, за растительным маслом. Мама покупала за рубежом товар и продавала в СССР втридорога. Простодушный Пашкин отец в это время ежечасно проматывал ее деньги и приносил раскровавленную рожу домой, приводя на запах крови престранных огромных мужиков, отдавая им последнее, что оставалось в советском сейфе — комоде. Как-то раз занятия отменили по непонятным причинам, Павлика никто не встретил. Он одиноко дошагал до дома, открыл незапертую дверь и вдруг услышал мамин крик в телефонную трубку: «Уезжай оттудова! Какая Москва, какая вообще Америка?! Ты о чем вообще, у нас Пашка маленький! Поняла… поняла… ладно… поняла…» С тех пор семья Павлика стала неполной, разговоров об отце не допускалось, а мамка притихла и занялась «взрослыми» делами. Теперь казалось, что вместе с расстрелом Белого дома в Москве расстреляли и ее саму, ту ее часть, которую впоследствии она стала пренебрежительно называть совдепом.
В седьмом классе все было уже совсем иначе: все «ху» определились, и мамка нашла себе нового мужа. Теперь Павлик смотрел на комод сверху вниз: углубление столешницы стало хранилищем сбережений, оно утеряло сукно от частых посягательств и стало матовым, размазав всю Пашину курносость, кроме которой ему от отца достался еще врожденный порок сердца, ранний юношеский пушок на щеках и довольно скверный, крепкий характер.
Пашка несся по коридору, в кофте его, как в мешке, с верхом лежали шаньги и ватрушки. Он аккуратно завернул за угол, придержав подол, а затем, ухватив подпрыгнувшую выпечку, постучался в директорскую.
— Эльвира Ивановна! Вы вызывали, эй?!
— Чё орешь, она по телефону разговаривает.
За секретарским столом сидела крохотная женщина. Передними зубами она грызла колпачок ручки.
— Я говорю, меня вызывали?
— Да, Эльвира Ивановна тя вызывала! А чё ты не на уроке?
— Так вы ж сами только что сказали: Эльвира Ивановна тебя вызывала.
— Ты дурак?
— Не грызите ручку, мадам, а то чернила польются, весь рот синим станет, у меня такое уже было. Очень вязко будет на языке. Хотите булку?
Крохотная женщина выплюнула кусок пластмассового колпачка и направилась к директрисе.
— Тут Павел к вам, Шутов, пускай заходит?
Пашка вошел в бордовый кабинет. На подоконнике спала кошка. Запах ее мочи мешался с запахом духов Эльвиры Ивановны. Паша стал прятать выпечку.
— Здрасте, Эльвира Ивановна!
— Здравствуй, Паша. Присаживайся, пожалуйста.
— Так я это… я ненадолго.
— Садись, садись. Н у, рассказывай, что там у вас вчера произошло с Зинаидой Сергеевной на истории?
— Погань она — вот что.
— Так! Ты как смеешь так говорить о преподавателе?
Эльвира Ивановна вытянула обе губы и стала походить на утку.
— Погань, я говорю.
— Ладно, Шутов, а с Колей Ксенчиным что было, тоже погань?
— Тоже.
— Давай! Давай, Паш, рассказывай, я тебе говорю.
— Я не стукач.
— Называй это как хочешь.
Губы директрисы как-то внезапно расправились и стали улыбкой.
— Ну, давай.
— Муж пусть вам дает, а я пошел.
После ухода Павлика Эльвира Ивановна зарылась в бурые папочки личных дел, отшвыривая самых непутевых. Паша Шутов полетел первым. Ничего примечательного, а так, бездарь обыкновенный: «Конфликтный, у нас с первого класса, отец… знаю… порок сердца, порок сердца… вот это уже любопытно, господа Шутовы…»
В конце девяностых поселок Кислотные Дачи поделился на Новые Дачи и Старые, коммуналки обветшали, таблички с указателями враз отвалились. Теперь неясно было, куда идти дальше, если вдруг, не дай бог, оказался на какой-нибудь Суперфосфатной улице или улице Бакинских Комиссаров, безопаснее всего было стоять на месте и ждать — Новые Дачи разрастались ежеминутно и обрастали фонарями. Школа, в которой учился Павлик, географически тоже оказалась на Дачах Старых, она до сих пор жила на тех улочках, в которые когда-то советские люди втискивали свои магазины промтоваров и двухэтажные хрущевки. Зато директриса жила уже на Дачах Новых, видела новые сны о красном кирпичном здании школы, обещанном районо за ее «хорошую успеваемость».
«А на этой фотокарточке мамке шестнадцать, тут они всем классом собрались, страшненькие все, в фартучках каких-то дебильных, и очень серьезные. Мама с Элькой в центре, опять мама в объектив смотрит, а Эля, судя по всему, ворону поймала, — Павлик молча сидел в кресле и указательным пальцем закрывал мамин передник, — и в самом деле какие-то больно серьезные, семь мальчишек, все остальные девки…»
— Ба, а мамку, кажись, Эльвира Иванна вызывает!
На пышный ковер с бахромой Павлик с мамкой явились на следующий же день. Крохотная женщина сидела на том же месте и целеустремленно догрызала пластмассовый колпачок.
— Здрасть, вы к Эльвире Ивановне?
Пластмассовый синий кусочек вывалился из ровных зубов и бесшумно упал на письменный стол.
— Будьте так добры, сообщите, я мама Паши Шутова. Если что, Галина Павловна.
— Ладн, щас, секундочку обождите.
Маленькое туловище исчезло за дверью.
— Ну, Пашек, чего ты вообще тушуешься, если ты прав, то меня никто и ни за что ругать не будет, слышишь?
Павел оглядывался по сторонам и натужно кусал заусенцы.
— Будет. Только я все равно не расскажу ничего.
— Да не рассказывай ты, ради бога, мне и без твоего детсада проблем хватает. Ты не психуй главное.
Когда Пашкин отец в эпоху перестройки надумал зажить хорошо, с собой он в первую очередь позвал Сергуню, Элькиного мужа, верного друга семьи Шутовых. Эля в то время оканчивала педагогический и мало еще чего впереди себе представляла, но одно она знала точно — Галька останется с ней навечно в том или ином роде, а пойдут детишки, так можно будет еще и породниться — «покрестить всех крест-накрест».
— Короче, Серег, харэ нам с тобой мямлить, валить с Кисляр надо, пока еще можем.
— Валить, ага…
— Ты, короче, в курсах, что тут в шестидесятых творилось?
— А-а-а, ты про эти, про химикаты?
— Возле «Камтэкса» трава красная лезет — вот те и заводик, вот те и продукты производства кислоты.
— Ну да, еще, я слышал, в Каме мульки с тремя головами плескаются.
Сергуня хохотнул миловидным смешком и вмиг умолк.
— Я говорю, вали-и-ить, или ты чё, хочешь, чтоб тебе дети твои оранжевых снеговиков лепили?
— А помнишь сосновый бор возле профилактория, ну, на Пасху с Элькой и с Галей были, так там деревья до сих пор рыжие, помнишь?
— Я про чё и говорю, там азота с фосфором больше, чем у американцев водорода.
— Что с нами будет…
— Да ты подожди, завод прикроют, там еще церковь встанет со звонницей и главкой, приспособят, суки, заводские корпуса, молиться пойдем.
— Мне другое интересно: куда потом все эти химики пойдут работать, когда прикроют завод?
— Понятно куда — детям твоим историю с географией преподавать, тут, в школах.
— Да ну…
Уже через полтора месяца Митек и Сережа жадно нарезали колбаску на закусь на пороге новой церквушки, радовались, что колбаска не совсем растаяла от переизбытка крахмала, и осыпали головы друг друга продуктовыми талончиками. Кислотный заводик теперь был в их руках, производство пластилина и цветных порошков прекратилось, а с конвейерной ленты вдруг начали слетать зайцы.
— Эльвира Ивановна вас сейчас примет.
Крохотная женщина нехотя поднялась со стульчика и от греха подальше поплелась открывать дверь.
— Заходите-заходите.
На подоконнике всё так же спала кошка, запах ее мочи уже гораздо меньше отвлекал от запаха духов Эльвиры Ивановны, сама Эльвира Ивановна докрашивала губы.
— Здравствуйте, Эльвира… Хосподи, Элька?!
— Здравствуйте, проходите, присаживайтесь.
— Эля, это ты?! Павлик, так это ж Элька, моя Элька, ты на фотографиях ее видал! Элечка!
Галя подбежала к директорскому столу, наступив на бахрому ковра.
— Галина Павловна, соблюдайте правила приличия, присаживайтесь на стул.
— Эля, ты что, до сих пор… столько лет прошло.
— Я не понимаю, о чем вы. Итак, во-первых, ваш сын невоспитанный хам, во-вторых, он порочит честь школы, ну, а в-третьих, он инвалид и должен учиться дома.
— В смысле, какой еще инвалид?!
Галя отошла от стола и снова наступила на нарядную бахрому.
— Инвалид, самый настоящий, у него порок сердца и есть группа, я в курсе всех дел.
— И что, Эль, ты совсем, что ли, с ума сошла?!
— Я настаиваю на том, чтобы этот ребенок обучался дома, по закону я имею на это право.
Галя снова покраснела и, сев на скользкий стул, поймала ногами бахрому.
— Иди к черту, Эля.
— Понятно мне теперь, в кого сынуля ваш такое хамло, вы и сами-то, Галина Павловна, не особо воспитаны.