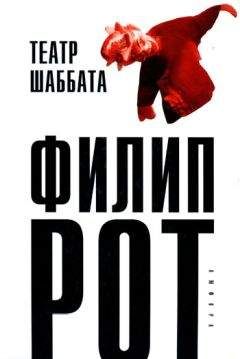Ты отсосала у него?» — «Нет, нет, он кончил в меня. Это он у меня лизал, хотя кровь и шла все время. Так что мы такую грязь развели: кровища… Столько возни из-за этих месячных. Пот, смазка, да это и не смазка, а как бы это назвать? Густая такая штука, все наши соки. А потом встаешь, смотришь — а перед тобой посторонний человек, ты его почти не знаешь. Да еще это полотенце, с которым непонятно что делать». — «Опиши-ка мне это полотенце». — «Это было обычное белое полотенце. И в конце концов оно стало почти красным. Такое обычное банное полотенце. Под конец было все в пятнах. Если бы его выжать, кровь бы полилась. Даже не кровь, а такая густая жидкость, вроде сока с мякотью. И все-таки оно было не целиком красное. Но пятна были большие, оно даже тяжелое стало от крови. В общем, это полотенце… не алиби, а как там это у вас по-английски называется? Не алиби, а наоборот…» — «Улика?» — «Да, да, улика, вещественное доказательство преступления. Он меня и спрашивает: что мне с этим делать? Стоит, высокий здоровый мужик, беспомощный, как ребенок, держит это несчастное полотенце. Смущается, но пытается это скрыть. Ну, я тогда решила не изображать невинность, не восклицать притворно: ах, какой ужас! Да, я часто сплю с мужчинами и к таким вещам отношусь хладнокровно. Он говорит: я не могу отдать это прислуге, чтобы выстирала, и в мусорный бак тоже бросить не могу. Думаю, его надо выбросить. Но куда? И тогда я говорю: я его заберу. И у него такое облегчение отразилось на лице. Так что я положила этот мокрый комок в пакет, а пакет — в продуктовую сумку. Он был счастлив, что отделался от него, отвез меня домой, я пришла и первым делом положила полотенце в стирку. И оно прекрасно отстиралось. Ну, на следующий день он, конечно, приезжает и говорит: Дренка, дорогая, все было просто потрясающе… а я отвечаю: я выстирала полотенце, оно чистое. Заберешь его? А он: нет, спасибо. Он не взял обратно полотенце, и, думаю, его жена не заметила пропажи». — «Ну, а кто же был у тебя четвертым в тот день?» — «Я приехала домой, спустилась в подвал, бросила полотенце в стиральную машину, а потом поднялась в спальню, и в полночь Матижа вдруг захотел, чтобы я выполнила супружеские обязанности. Увидел, как я голая иду в душ, и возбудился. Что ж, я должна это делать, и я это делаю. Слава богу, это случается не так уж часто». — «Ну и как оно, после четверых мужчин?» — «Матижа уснул. А я, если хочешь знать, вообще ничего не соображала. Я думаю, это очень большое напряжение — четверо за день. Трое мужчин за день у меня бывало, но четверо — никогда. По-моему, это очень смело, и… это интересно, захватывающе, даже несмотря на то, что четвертым был Матé. Возможно, это в каком-то смысле извращение. И в каком-то смысле я получила огромное удовольствие. Не знаю… Но заснуть я в ту ночь не могла, это точно, Микки. И мне было неуютно, неспокойно, я как будто не знала, кому на самом деле принадлежу. Я подумала о тебе, и помогло, но все равно за удовольствия того дня я заплатила дорого — ночным смятением. Если бы я могла вытеснить все это или экстраполировать — так, кажется, надо сказать? — свести только к сексу, — тогда все это было бы очень увлекательно». — «Увлекательнее всего на свете, донна Джованна?» — «О боже мой, — от души рассмеялась она, — этого я не знаю, тут надо подумать». — «Да, подумай. Составь il catalogo». — «Раньше, лет тридцать тому назад, я занималась этим с проводником в поезде, который шел через всю Европу. В те времена о СПИДе еще и речи не было. Да, с проводником, с итальянцем». — «И где же ты занималась этим с проводником-итальянцем?» Она пожала плечами: «Просто находили свободное купе». — «Это правда?» Она опять засмеялась: «Ну да, правда…» — «Ты уже была замужем?» — «Нет, нет, это было, когда я год работала в Загребе. Да, в поезде, он вошел, такой невысокий, симпатичный итальянец, заговорил по-итальянски, а итальянцы, они ведь очень сексуальные, а мы с друзьями… у нас была вечеринка. В общем, я не помню, кто из нас начал. Да что там, я начала. Я продала ему сигареты. Путешествовать по Италии было дорого, так что мы брали с собой что-нибудь на продажу. Итальянцы всегда покупали наши сигареты. В Югославии они дешевые. И все югославские сигареты назывались по названиям рек: „Дрина“, „Морава“, „Ибар“. Да, все реки. Мы за них выручали вдвое, а то и втрое больше, чем платили у себя. Ну я ему и толкнула сигареты. Так это и началось. Год после школы я работала в Загребе и путалась там со всеми. Мне так нравилось, когда в меня кончали, это такое чудесное ощущение. Очень сильное. На следующий день идешь на работу и знаешь, что тебя хорошо отодрали, что ты до сих пор вся мокрая, и трусы мокрые, так и ходишь мокрая — мне это очень нравилось. А еще, я помню, познакомилась с пожилым таким дядькой. Он был гинеколог на пенсии, мы с ним как-то разговорились обо всем этом, и он сказал, что это очень полезно — чтобы сперма оставалась во влагалище после того, как мужчина кончит, и я с ним согласилась. И он возбудился от этих разговоров. Но все оказалось бесполезно. Он был слишком стар. Было бы любопытно попробовать со стариком, но ему было уже семьдесят — глухой помер».
Шаббат добрался до своей машины, углубился еще футов на двадцать в лес по тропке, распотрошил букет и разбросал цветы среди деревьев. Потом он сделал нечто совсем странное, странное даже для такого странного человека как он, для человека, считавшего, что он приспособился к бесконечным противоречиям, обступающим людей со всех сторон. Из-за этой странности большинство людей его не выносило. Так что представьте себе, что было бы, если бы кто-нибудь застал его ночью в лесу в четверти мили от кладбища слизывающим с пальцев сперму Льюиса и воющим на полную луну: «Я — Дренка! Я — Дренка!»
С Шаббатом творится что-то страшное.
Но с людьми то и дело творится страшное. На следующее утро Шаббат узнал о самоубийстве Линкольна Гельмана. Линк был продюсером «Непристойного театра» (и «Подвальной труппы») Шаббата в пятидесятые и в начале шестидесятых, когда Шаббату удавалось собирать своих немногочисленных зрителей в Нижнем Ист-Сайде. После исчезновения Никки он провел неделю у Гельманов в их большом доме в Бронксвилле.
Шаббату позвонил Норман Коэн, партнер Линка. Норман в этом дуэте оставался в тени, но был если не ведущим, то, по крайней мере, интеллектуально равным руководителю партнером и постоянно следил, чтобы тот не зарывался. Он служил Линку противовесом. В разговоре на любую тему, даже о расположении мужского туалета, он обходился одной двадцатой того времени, которое требовалось Линку, чтобы разъяснить свою позицию. Получивший образование сын жадноватого дистрибьютора музыкальных автоматов из Джерси-Сити, Норман с годами стал пунктуальным и осторожным бизнесменом, распространяющим вокруг себя ауру уверенности и спокойной силы, которой часто обладают худые, высокие, рано начавшие лысеть мужчины, склонные носить, как Норман, отлично сшитые серые костюмы в тонкую полоску.
— Его смерть, — сказал Норман, — для многих стала облегчением. Почти все, кто придет на похороны и скажет несколько слов, не видели его пять лет.
Шаббат не видел его тридцать лет.
— Это всё партнеры по бизнесу, близкие друзья из Манхэттена. Но его нельзя было увидеть. С Линком невозможно было общаться — совсем подавленный, с навязчивыми идеями, вечно дрожит, чем-то испуган.
— И давно это с ним?
— Семь лет назад он впал в депрессию. С тех пор он и дня нормально не прожил. Ни часа. Мы пять лет прикрывали его на работе. Он, бывало, застынет с контрактом в руке и повторяет: «Вы уверены, что все правильно? Вы уверены, что это не противозаконно?» Последние два года он просидел дома. Энид больше не могла это выносить, так что они нашли для Линка квартиру в доме за углом, Энид обставила ее, и он стал там жить. Каждый день приходила экономка — покормить его, прибраться. Я попробовал было навещать его раз в неделю, но, честно говоря, мне приходилось себя заставлять. Это было ужасно. Вот он сидит, слушает, слушает тебя, потом вздохнет, покачает головой и скажет: «Ты не знаешь, ты не знаешь…» Годы я не слышал от него ничего другого.
— «Ты не знаешь…» Не знаешь чего?
— Какой ужас он испытывает. Какую тоску. Какую бесконечную, постоянную тоску. Никакие лекарства не помогали. Его комната напоминала аптеку, но ни одно средство ему не подходило. От всех его тошнило. Прозак вызывал у него галлюцинации. Велбутрин тоже. Потом ему начали давать амфетамины — декседрин. Два дня было непонятно, что происходит. Потом началась рвота. Так что кроме побочных эффектов он от этих лекарств ничего и не имел. Госпитализация тоже не помогла. Они продержали его три месяца. Потом отправили домой, сказали, что у него больше нет суицидальных настроений.
Его драйв, вкус к работе, бодрость, быстрота, сноровка, старательность, его многословное остроумие… Он был, и Шаббат прекрасно это помнил, человеком своего времени и на своем месте, скроенным точно по нью-йоркской мерке, идеально приспособленный для этой лихорадочной жизни, всеми порами источающий желание жить, добиваться успеха, радоваться. На взгляд Шаббата, он был даже слишком чувствителен и слезы у него были слишком близко. Он говорил очень быстро, прямо извергал потоки слов, и было ясно, какие могучие источники все это питают.