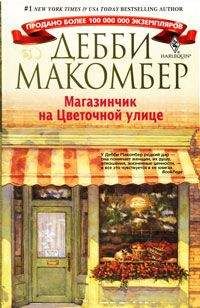И пока я смотрел на нее, по тропе поднимался, вплывая, накрененный вперед и чуть в сторону, дом под безудержно черным чехлом с матово красными глазными прорехами.
Ксения пятилась. Белая продолжала стоять, выгнув шею. Он причалил к ней боком и соединил с нею головы в небе.
Это уже был перебор. Я привалился к стене, вынув из рюкзака упанишады, Ксения открыла блокнот и задумалась, покусывая карандаш.
Вначале было одинокое Ся (Self, Самость) с неморгающим взглядом. Он думал: "Не создать ли Мне территории?" И сотворил: область первичной воды, затем света, земли и еще раз воды. И снова задумался: "Вот стихии, позволь Мне сотворить для них правила", и вознес яйцо из вод. И согрел его своими ладонями. И от тепла ладоней Его возникли губы в прорехе треснувшей скорлупы. И губы эти были Его губами – по сути и форме своей. И от губ родилась речь, а от речи – огонь. Затем проявился нос; от ноздрей пошло дыханье, от дыханья возник воздух.
Проявились глаза; из глаз излучилось зрение, из зрения родилось солнце. Уши возникли; от них – слух, от слуха – стороны света. Затем
– кожа; от кожи – волосяной покров, и от него – флора.
Затем – сердце; от сердца – сознание, от сознания – луна. Пуп возник; от пупа – Апана, нижнее дыхание, от Апаны – родилась смерть.
Половое отличие проявилось; от него – семя, от семени – хлябь.
На дерюгу подсаживаются два баба. Намосты! Намосты, – отвечаем. Пьют чай. Шушелькума разжиживает в бадье коровий навоз; руки по локти – там, голова щурится вдаль, улыбаясь. В тени под деревом женщина – тихо топчется, что-то бубня поверх ветвей. Блаженная, – кивнул на нее Шушелькума. Очень красивое лицо. И очень горькое. Похоже, уже не чувствующее боли.
И когда божества эти были созданы, они возвратились в воду. И Он наполнил их жаждой и голодом. И они обратились к Нему: "Дай нам место, где бы мы могли существовать". И вывел Он быка из воды. "Нет,
– сказали они, – это не убедительно". Он сотворил лошадь. "Нет, – сказали они, – этого не достаточно". И тогда Он создал человека.
"Да, – сказали они, – хорошо сработано!"
Ксения закрыла блокнот, подсела к баба, разговаривают. Шушелькума вывернул бадью под стену за бричкой и чешет жижу ребром доски, подготавливая площадку для чаепитий. На солнце – под 60, она парует, осаживаясь, отвердевая. Он покрывает ее дерюгой, глядит на сына, тот
– на отца, подмигивают, лучатся.
Огонь – как речь – вошел в рот; воздух – в нос; солнце – как зренье
– вошло в зрачок; стороны света – как слух – в уши; растительность – в кожу; луна – как сознание – в сердце; смерть – как Апана – в пуп; воды – как семя – в чресла. Жажда и голод спросили: "А наша где часть?" – "В каждом из них!" – Он ответил.
Шушелькума подносит очередной стакан. Заглядывает на обложку.
Улыбаясь, кивает: "Хорошее место". На дерюге роится семья паломников с выводком маленьких будд, ходящих враскачку гуськом друг за другом.
Ксения с сыном Шушелькумы Кумари чертят на песке веселые абракадабры. Отец прищурился меж деревьями и, нырнув в листву, вышел с пуком травы в руке, поднял крышку, кинул в чайник. Хорошо сработано!
И подумал Он: вот территории и вот их правила. Создам харч. Он медитировал на воде, и от жара медитации возник образ. Образ тот – суть харч. И бежал харч от человека, и пытался чел. поймать его речью, и не мог, но говорить о нем было приятно вполне. И пытался… и так далее, до нижнего дыха Апаны; ей одной удалось его сцапать – на том и стоит.
Ксения подошла, села рядом, положила голову на плечо, смотрит в книгу. Терпимо.
Он подумал: "Могут ли они жить без Меня? Могут. Но без Меня. Как же войти в тело?". И вскрыл темя и вошел сквозь Воротца Радости. И нашел для Себя три места, где Он мог бы жить, три состояния, которые
Он мог бы приводить в движение: ходьба, греза, сон. Он огляделся в названных трех и был поражен, что никого, кроме Него, там нет. С тех пор Он известен под именем Идандра – Тот, который видит. То есть Индра.
Я отложил книгу и отхлебнул чаю. Ксения потянулась за ней и начала листать, говоря: "Там есть место, не помню где, про Индру, как он на пару с одним безбожником, отъявленнейшим из смертных, приходит к отшельнику… Праджапати, так, кажется. Узнать – что такое Self, то есть что лежит в основе Всего. И тот их водит за нос, обоих. Шудра с ним и остается. А Индра всякий раз с носом уходит, но по дороге понимает, что его надули, и возвращается к мудрецу на следующий срок, и тот его школит и благословляет с носом, и вновь буратино идет в мир – счастливый и вразумленный, и, отойдя на полсвета, снова хлопает себя по лбу, и возвращается. И так сто…" – "Неужели одиннадцать?" – говорю. "Нет, – усмехается, – сто один день".
Подходит Шушелькума, подсаживается, говорит:
– Эту стену протянули с полгода назад. Прежде был вид на реку…
– Так это можно восстановить, – говорю.
– Как?
– Так я нарисую, – шучу.
– Не шутишь?
– Нет, он не шутит, – опережает Ксения, кладя мне ладонь на колено.
– Спасибо, – говорю ей тихо, когда отошел Шушелькума. – Мне бы это и в голову не пришло. Рисовать здесь, в Ришикеше, где само понятие живописи не существует – как… третья нога у человека.
– Ну, уж это-то как раз существует, и не только это.
– А тем более – на стене ашрама. В этом саду. У Ганга.
– Что, кощунство?
– Да нет же, я не об этом. О марсианстве.
– Так скажи ему, что ты пошутил. Хотя так здесь не шутят.
– Ну не реальный же вид рисовать на Ганг, бред ведь.
– Тебе, – говорит, – виднее.
Я пошел к мосту – покупать материалы, она – к реке, окунуться.
Идея, конечно, чудная, но что рисовать – не вид же на Ганг, в самом деле. И что это она говорила о мудреце – как же его – прджа… Ну и память у нее – когтистая, как кошачья лапа. А с виду – тихо, подушечка на меху. Не заговаривайся. Надо б найти это место. Как-то все это неспроста. И то, как она пародировала мою речь, про буратино плетя, и все такое. Хотя и ее речь не линейна. Прямолинейна – да, но не линейна. Как город. Как микросхема.
Я вышел к мосту и нашел, что искал: горки пигмента – такой ослепительной яркости, что смотреть на него можно было лишь в темных очках; красное солнце, желтое солнце, зеленое, голубое… Я купил все одиннадцать. Вручную готовят, с юга везут. На обратном пути купил в лавке банку белой эмали и кисти. Плана не было. Шел через сад.
Она стояла на подоконнике, в ярком проеме распахнутого окна, где-то меж этажом седьмым и десятым, судя по голошенью детей и собачьему лаю, доносившимся снизу. Из сумрачной глубины комнаты я смотрел на нее против света – то в близоруком расплыве, то снова в твердеющих очертаньях – в зависимости от застящих свет облаков или, скорей, набегавшей дымки.
Лица я не видел. И не могу сказать – почему. Что-то мешало взгляду.
Ноги босые на подоконнике – да, начиная от них и выше: полупрозрачная шелковая сорочка, красноватого, затуманенного, сквозь которую – ее тихое голое тело перехватывало дыханье, но не вожделеньем и глубже испуга – этим несбыточно чутким родством.
Тело ее, развернутое ко мне лицом, которого я не видел. Пух тополиный летел за нею и, попадая в комнату, скользил по полу, не находя угла, и вверх тянулся на задних лапах. И, кроме пуха, пыли и полумрака, меня, стоявшего в глубине и глядящего в смутный далекий проем, еще – эта тишь, как будто ладони, прикрывшие рот всему, что могло иметь голос, будто это условие происходящего – этот отключенный звук и мое положение там, в темноте, неподвижно, беспомощно, немо стоять и смотреть.
Смотреть на ее замедленно-плавные движенья сосредоточенных рук.
Сорочка ее оторочена крючками-невидимками, бегущими змейкой от плеча до подола. И к каждому подвязана нить, которую я не вижу, а лишь угадываю по ее движеньям, выуживающим по одной эти нити и тянущим их по одной к оконному переплету, и там подвязывая – к шпингалетам, гвоздям, рассохлым расщепам – ко всему, что находит, где можно ее закрепить в относительном натяженьи. И я смотрю, как сорочка ее постепенно растягивается в стороны, от подола с проступающими круглыми коленками, сужаясь к плечам.
И ведь она ее не спасет, эта зыбкая паутина, лучевая, заплетающая проем. Эти тонкие черные лучики, вихляя, бегущие от нее – будто треснувшее стекло, и она уже в нем – как проем. Она как проем.
И сквозь этот проем, сквозь нее – голоса от далекой земли и рваная пядь безучастного мыльного неба над крышей высотки – еще иль уже нежилой. И пух тополиный, припавший к зазубренным граням проема и с дрожью скользящий по ним.
Шушелькума чуть передвинул бричку, освобождая мне место у стены.
Ксения присела рядом со мной на корточки, помогая размешивать краску.
Выстраивая перед собой баночки с готовой суспензией, чуть потерявшей в цвете от добавленья эмали, я еще и невольно тянул время, по-прежнему не представляя себе, что рисовать на стене.
Высота ее была около двух метров. Ширина – видимо, не короче дерюги, расстеленной под стеной – метров пять, может, чуть меньше. Я сунул кисть в банку с эмалью и шагнул к стене.