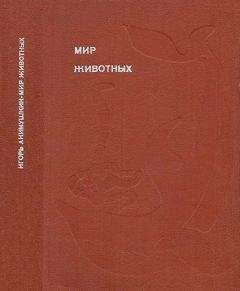«Так и не простила, — подумал Лева. — Все же ограниченность и злопамятность женского ума поразительны».
Он повернулся к Грише. Тот стоял понурившись и задумавшись.
Как только еще в разговоре с Аней Гриша помянул о венках и гробе, Лева сразу вспомнил то, что говорил ему Гриша по телефону, о Горе-Злочастье, которое явилось к Аниным родственникам, об Анином погибшем племяннике, иными словами, думал он, ему пофартило, повезло, что не пришлось сознаваться в своей забывчивости, теперь надо только делать вид, что он и раньше помнил, и упрек может быть только один — в грубости сердца, в невнимательности, в эгоизме. Неприятно, но перенести почему-то легче, чем упрек в забывчивости. И Лева забормотал:
— Прости, старик, собственная жизнь замучила, Поэтому вместо того, чтоб Аню отвлечь или развлечь, я, похоже, только усугубил. Ты расскажи, что там случилось, какой совет от меня надо, я постараюсь, может, чего в голову и придет.
— Пойдем в комнату, я буду переодеваться, — ответил сумрачно приятель. Все же его угнетала размолвка с женой, Лева это видел.
Они вернулись в Гришин кабинет. По тому, как, насупился Гриша, Лева понял, что рассказывать он ничего не будет.
Лева тоже насупился: что он, хуже всех, что ли?! Он хотел всего ничего — исповедаться, поплакаться, о душе поговорить и тем самым от скверны очиститься. К кому же и пойти было, как не к самому старому другу, которого хранишь на дне души на крайний, последний случай?! И вот он чувствовал нараставшее Гришино отчуждение, и это было ужасно, потому что сам был в этом виноват. Внес лишнее напряжение и фальшь в дом, где и без того все непросто. И вся ситуация стала невозможной. Аня небось и так с трудом перенесла его приезд, но смирилась, понадеявшись, что он, Лева, посоветует что-нибудь, посочувствует хотя бы. А он только о себе и помнил. Грише первому говорить было неловко: он дал Леве излиться. А теперь в дело встряла Аня, обиделась, видите ли, а Гриша как был подкаблучником, так им и остался, — зло думал Лева.
Лева исподлобья смотрел, сидя на диване, как Гриша достает из шкафа старый черный костюм, по фасону видно было, что костюм еще Гришиного отца-профессора. Потом Гриша на секунду повернулся к нему, и Лева с раскаянием увидел на его лице боль и сразу вспомнил, что Гриша всегда мучился и просто физически уставал от фальшивых ситуаций. Лева понимал, что это от возникшей дисгармонии при столкновении душ, разнотонно настроенных. Жена просила не рассказывать, друг назойливо просит рассказать, думал о себе в третьем лице Лева, — ситуация безмерно дурацкая. При первых звуках фальши Гриша и всегда-то съеживался как мимоза, а сегодня что-то уж особенно. Лева заметил выражение мешковатой смущенности и искусственно натянутой улыбки на его дрожащих губах. Следующий этап, если нескладица будет расти, как несложно было догадаться, — улыбка уйдет, он потускнеет и вообще окаменеет. Тут бы и уйти, но это Леве казалось сейчас унизительным. И он остался сидеть, упрямовыжидающе глядя на Гришу.
— Ну что ты смотришь? — вдруг раздраженно сорвался Гриша. Это его раздражение Лева чувствовал каждой клеточкой тела и души. — Помочь все равно не поможешь. Любопытство гложет? Тогда изволь!..
Лева хотел было обидеться на эти слова, но то, что рассказал ему Гриша, а потом добавила подошедшая и слегка успокоившаяся Аня, привело его в оцепенение. Человек — ничтожная пылинка, игралище бессмысленной судьбы, думал Лева, слушая рассказ. А может, и не бессмысленной, но земным умом этого не понять. Может, Инга права, что человек всегда сам творец своего несчастья. А ведь и он, Лева, человек, значит, и с ним может нечто подобное случиться в любой день. И как предотвратить?
Гриша рассказал, что Анин племянник Андрейка, двадцативосьмилетний парень, второй раз женатый («Как и я», — отметил про себя Лева), инженер, вполне прилично зарабатывал, от первого брака одна дочка, от второго — две, пошел позавчера с приятелями купаться на пруды у Ждановского метро, их почему-то называют «отстойники», при этом, наверно, подвыпил, нырнул и головой в тине увяз, ногами подрыгал, а пока все смеялись, он и захлебнулся. Это вечером сообщила по телефону его жена.
— Откуда ж такие болотистые пруды в Москве? — только и спросил Лева.
— «Москва» — значит болотистая, с древне-балтического, — сказал сухо Гриша. — Здесь же раньше древние балты и угро-финны жили. Все величие наших с тобой предков в том, что на месте болот построили великий город, Белокаменную. Но топь-то осталась. Не все еще цивилизовано. Да не в том дело.
Действительно, как рассказал он дальше, затем началось нечто странное. Выяснилось, что принесли Андрея посторонние якобы люди, приятели куда-то исчезли. Хотя откуда посторонние узнали его адрес? Какие приятели приходили к нему в гости, никто не видел. Жена с младшей дочкой была в поликлинике, а старшая почему-то весь день проспала, никого не помнит, кто и приходил. Потом его мать, Анина сестра Серафима, вспомнила, что и вообще Андрейка не любил в незнакомых местах купаться, потому что плавать не умел. Тут все заговорили, что компания, с которой он последнее время якшался, была какая-то нехорошая: карты ночами напролет, какая-то мелкая спекуляция, стали подозревать убийство, допытываться у жены, что у них были за приятели. Та вначале отнекивалась, что, мол, не знает, а потом вдруг сказала, что обнаружила Андрейкино предсмертное письмо, в котором он сообщает, что покончит жизнь самоубийством. «Было ли что или не было, — сумрачно произнес сентенцию Гриша, — никто сейчас доказать не может, но игры с темной силой до добра не доводят».
— А чего сомневаться — все было, — послышался вдруг от двери Анин голос. — Не мог он с собой покончить: мамсик был всегда. Это, конечно, Сима его разбаловала. Но ее можно понять. У мальчишки в пять лет нашли порок сердца. И она его на себе с пятого этажа на улицу, а с улицы на пятый этаж на закорках таскала. А потом уж, естественно, всячески оберегала, лучшие куски в тарелку подкладывала, всем похуже, ему получше, старший его брат Витя был в большом из-за этого загоне, но очень уж добродушный парень, нисколько не сердился. Хотя, как мне кажется, Андрейка хоть и был мамин баловень, которому многое позволено, но он как-то и для себя, и не для себя жил. Он, знаешь, Лева, был из тех, что норовят, что называется, «все в дом». А дом там, где жена и дети. Все для них, не для родителей, не для брата, да и не для первой жены с дочкой. Сима говорит, что с компанией он какой-то связался, в карты играл. Ну и что? Ну не в карты же он себя проиграл. Чушь какая-то. Проиграл, а проигрыш означает самоубийство, так, что ли? И совсем странно, как все это произошло. С работы ушел рано. В два часа зашел к родителям, пообедал, он любил вкусно поесть, а жена, видимо, не очень-то готовила. Был веселый, как всегда ласковый, в три пошел домой. Сима ему с собой еще здоровенную треску упаковала. Он ее взял, в авоську сунул. Настоящий семьянин. Все в дом. А в полшестого или в шесть уже позвонила его вторая жена Людмила (первую, кстати, так же звали) и сказала, что Андрей утонул.
Лева обернулся, внутренне обрадованный, что с ним разговаривают, к нему обращаются. На пороге комнаты стояла Аня в черном платье, черном платке. Она не могла, как и надо было ожидать от женщины, не интересоваться разговором, который ее затрагивал. А Лева во все время рассказа продолжал испытывать цепенящий, непонятно от чего берущийся ужас. Люди, которые заставляют проигравшего топиться, люди, играющие в карты на жизнь, были из запретного, маргинального мира, с которым Лева хотя и ходил обок, но никогда, в сущности, не соприкасался и старался не думать о его существовании. Ведь то, о чем не мыслишь, как бы не существует. Ему бывало не по себе даже от ночных криков, хохота и ругани, доносившихся сквозь зарешеченное окно в его комнатке на Войковской (на окно поставила решетку сдавшая Леве комнату хозяйка — все-таки первый этаж; правда, она рассказывала, что какую-то ее шаль даже сквозь решетку удочкой подцепили и выкрали). Но это стрезва. Спьяну он как бы вступал в другое измерение, ему любое болото было по колено. Сейчас Лева был скорее трезв, чем пьян, и ему было страшно.
— Ты б ее видел, — добавила Аня, — худенькая, тощая, как ящерица или болотная змея какая, глаза как у… у… какого-то зверя, чужие, недобрые. А голос приветливый, даже ласковый, просто мороз по коже. Она себе чистое алиби устроила. Муж утопился, а ее дома в этот момент не было, не знала даже, что он купаться ушел. Так разве бывает? И дочка не знала, спала, не видела, приходил ли кто к отцу. Я говорила Коле, что у девочки надо кровь взять на анализ, анализ на снотворное. Теперь они время, конечно, упустили. Я думаю, она старшей снотворное вкатила, с младшей ушла, а кому-то свои ключи передала. Они пришли, бандиты эти. Уж что они с ним делали — не знаю. А потом с собой увели. Я не верю, чтоб Андрейка сам утопился. Кто-то над ним это сделал. Письмо заставили написать, а потом убили.