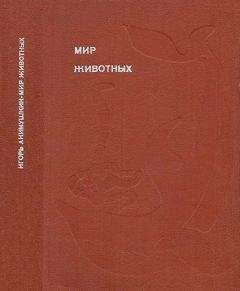Машина, вздрогнув, затормозила и остановилась. Лева закрыл глаза и снова открыл. Он был в машине. Глаза увидели обычную картину за окнами: кусты, песочницу, детей, два столба с натянутой между ними веревкой, на которую тетка в расстегнутой кофточке, затрапезной юбке и домашних тапках на босу ногу вешала белье, — типичный быт окраинного городского района.
— Борис когда приедет? — услышал Лева Анин голос.
— Сказал, что прямо из библиотеки сюда. Думаю, часам к пяти, — это отвечал Гриша. Говорили они о своем сыне. Это Лева понял. Открывать глаза ему не хотелось. Он переживал свой коллаборационизм по отношению к чудовищу, ведь надо же понимать, укорял он себя, что с этим прямым потомком доисторических гадов договориться невозможно. Фу, мерзость!
Видимо, он опять задремал, потому что второй раз открыл глаза на словах Ани:
— Зачем было брать его? Не понимаю.
При этом Гриша пытался трясти его за плечо и тащить за рукав из машины. Шофер подпихивал его с другой стороны.
— Я сам, — Лева вылез из такси, чувствуя себя, несмотря на ясный день и жару, вечерней развалиной. Его даже познабливало.
Дом, к которому они подъехали, был блочный, еще хрущевских времен: пятиэтажный, с низкими потолками, а потому и невысокий, почти по уровню третьего этажа, если сравнивать с Гришиным домом, производил впечатление барачного строения слегка модернизированного типа. У дома было три подъезда, перед каждым— лавочки, на которых обычно сидят старухи и судачат либо вечерами спускаются в летнюю пору мужики в тренировочных брюках, майках-безрукавках и шлепанцах посидеть покурить, поглядывая на небо и во двор. Под окнами первого этажа высажены кустики и деревца, образующие своими чахлыми телами запланированные прямоугольники зелени. На улице толпились кучками жильцы. Перед подъездом, где они остановились, народу было больше обычного. Пожилые толстые женщины в темных платьях, мужчины разных лет в черных костюмах, столь же мрачно одетые девушки и парни. По обеим сторонам подъезда были прислонены к стене и к скамейкам венки из смеси живых и искусственных цветов, повитые траурными лентами.
Когда они двинулись к подъезду, из толпы старушек и пожилых женщин им навстречу выбралась одна в черной плюшевой жакетке, припала к Аниному плечу и запричитала:
— Племяша, родная моя! Вот как свидеться-то довелось! Хорошо, Антон не дожил, Царствие ему Небесное. Он из внуков-то, ты уж прости, не Борю твоего, а Андрейку больше всех любил.
Аня похлопывала ее по спине ладонью, успокаивая:
— Ладно, тетя Паша, ладно тебе. Как там Сима сегодня?
— Покрепче, покрепче, чем вчера.
Уже на лестнице, узкой, с короткими пролетами, плоскими и низкими ступенями, где рядом не поместиться, Лева спросил:
— Кто это подходил?..
Гриша, шедший на ступеньку впереди, обернулся, приотстал от Ани и ответил шепотом:
— Сестра Антон Гаврилыча, покойного Аниного отца.
Они поднимались на четвертый этаж. По дороге, на втором этаже, слышалась приглушенная музыка, шум, вдруг донесся крик: «Горько!» «Надо же, чтоб в том же подъезде, — подумал Лева, — смерть и свадьба. Шутки жизни, бесконечный калейдоскоп смертей и рождений». Видимо, о страшном, противоестественном сочетании подумали все поднимавшиеся, потому что Гриша вдруг повернулся:
— Непонятно, для кого это страшнее. Для тех, кто внизу или кто наверху, Маяковский как знал, когда сравнивал, помнишь? «Страшнее, чем смерть на свадьбе». То есть страшнее трудно придумать.
У дверей квартиры на лестничной площадке, а также на пролет ниже и выше стояли молодые, как казалось Леве, парни в черных костюмах и курили. Было им лет по тридцать, очевидно, ровесники покойного Аниного племянника. Среди них оказался и его брат, как догадался Лева. Невысокий парень с широким лицом, в очках, с темной родинкой на подбородке, подошел к Ане:
— Здравствуйте, тетя Аня, пойдемте.
Она взяла его за руки, и они поцеловались. И Аня снова спросила с беспокойством:
— Как мама, Витя?
— Ничего, она вас ждет.
Лева умом понимал, что ему надо бы уйти, что не ждут его здесь, не до него, что он навязался мягкосердечному Грише, что не место ему среди горя, но жуткое чувство тоски и вдруг проснувшегося почти животного одиночества заставляло цепляться за Гришу, апеллируя к их прежней дружбе. А здесь какая ни ситуация, а все же люди, голоса, разговоры.
— Он с нами, — сказала Аня о Леве, испуганно мостившемся рядом. — Мы думали, Витенька, вдруг мужчина понадобится.
— Да нет, мужчин хватает, — ответил Виктор, поцеловался с Гришей и сказал Леве: — Пойдемте. Хотя помощи не надо, но спасибо за предложение. Посидите, пожалуйста, с нами, помянем Андрейку.
Голос у него прервался, и он повел их в квартиру. В квартире было суетно, хлопотно, заплакано. Женщины с красными, зареванными лицами накрывали в большой комнате стол, уставляя его блюдами, носимыми с кухни. Мужчины стояли у окон, черные как мухи. На подоконнике стояла пиала с водой. «Для обмыва души», — пояснил один из мужчин на недоуменный Левин вопрос. Семья из деревни, несмотря на долгую городскую жизнь, сохранила старинную обрядовость, об этом Лева и раньше догадывался по Гришиным рассказам. Из разговоров Лева понял, что отец Андрея и его вторая жена уехали в морг, зато в большой комнате была первая жена, оставленная, пухлая молодая блондинка, в окружении бывших одноклассников, молодых мужчин и женщин. Временами она принималась плакать и тереть глаза маленьким белым платочком. Ее тут же начинали гладить по спине, по плечам, утешали. Покрутившись по комнате, едва не разбив локтем стекло серванта, чувствуя, что всем мешает, Лева поплелся на кухню, куда еще раньше скрылись Аня с Гришей.
Кухня была крошечная. Одну стену занимали белая электрическая плита, кухонный стол и раковина. Над столом висела белая крытая полка с посудой, над раковиной — сушилка для посуды. Простенок напротив двери целиком был занят окном. Сейчас там, у окна, стоял Гриша с каким-то мужчиной и о чем-то говорил. У противоположной стены стоял шкафчик, тоже белого цвета, а рядом стол, очевидно предназначенный для кухонных трапез. За ним сидела Аня и толстая женщина в ситцевом платье, очках с золотой оправой, кудельками на голове, такой же «шестимесячной», как и у Ани. По ее толстым мягким щекам прямо из-под очков текли слезы. Лева догадался, что это и есть Сима, Серафима, мать Андрея и Анина сестра. Сестры резали лук, огурцы, селедку, красную рыбу, а заходившие на кухню женщины уносили все это в комнату на стол. Пожилые женщины все были в теле, корпулентные, толстые, очевидно, думал Лева, из того «социального слоя», где женская красота виделась в толщине, пухлости, обилии тела. Он и фразу одной из этих женщин, его мысль подтверждавшую, услышал: «Вот Андрейка взял за себя худеньку — и что вышло! Худенькие, они недобрые, себе на уме». Раньше, встречая таких толстых баб в автобусах или трамваях, где они занимали своими мясами почти по два места либо вмертвую перегораживали проход, Лева замечал про себя, что такая толщина антиобщественна, антисоциальна. Теперь же он подумал, что, может, и вправду зато толстые добрее. И тут же, словив эту мысль, решил, что одурел окончательно, раз оказался способен на такие умозаключения.
И озлобился. Вспомнил старую неприязнь к Аниной родне: «Что меня сюда занесло?! Мещанское болото! Здесь сразу как-то тупеешь. Смерть — великое таинство, а они о чем говорят? О чем они вообще могут говорить?.. И Гриша, Гриша, мыслитель, интеллигент во втором поколении, как сказал бы прежний зам.
Главного!.. И в самом деле, ведь Гришин отец-профессор, а его куда занесло?! Как он может с этими мещанами общаться? Как ему времени не жалко? А я? Я чего поехал? — И с неожиданной резкостью самобичевания, которое сегодня одолевало Левину душу, сказал себе:
— Погреться у чужой беды — вот чего. Дом чужой горит, а я сбоку притулился, греюсь. Чтоб одному не оставаться. Так не лезь, не злись. В конце концов, сам-то ты что из себя представляешь? Неужели Главный лучше? Или Чухлов? А ведь общаешься с ними. Или новые мои соседи — Иван да Марья? Они, что ль, интеллектуалы? А вчера — с кем пил и что вытворял?! Ф-фу! Расслабься. Всюду жизнь. Будь проще».
Сима плакала, резала снедь и говорила:
— Не знаю, как все произошло. Не могу представить, что это произошло. Еще позавчера он пришел днем, веселый такой, ласковый, пообедал у нас. И треску я ему с собой завернула. Он же был такой домовитый, запасливый. А вечером уже звонит Людмила, что он утонул, утопился… — Она отложила в сторону нож, сняла очки и закрыла глаза правой рукой, левая, вздрагивая, осталась лежать на столе.
Все замолчали, не зная, как помочь, только Аня встала, склонилась к ней, обняла за плечи, прижавшись к ее широкой спине. Сима вытерла слезы, надела очки и продолжила работу, пробормотав: