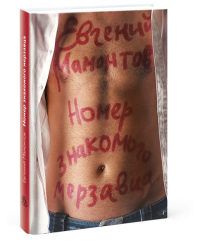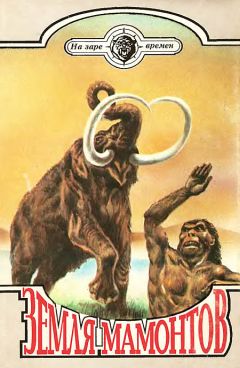Цену за уроки я запросил самую скромную, к тому же согласился выезжать на дом к ученикам. При этом свой статус определил как «преподаватель университета с десятилетним стажем», что для внимательного клиента уже должно было показаться подозрительным.
Все эти маневры, вроде наклеивания обоев, покупки ботинок, чтения, бритья, телефонных разговоров, обеда, ежедневного пробуждения–засыпания и, наконец, трехкратной дачи объявлений, давно уже не имели даже тактической цели. Перед кем? Из вежливости перед кем, я спрашиваю! — совершаются все эти бессмысленные операции. Из вежливости перед Богом, чтобы он не подумал, что я вроде как не совсем доволен? Из вежливости перед людьми, чтобы не быть угрюмцем и занудой? Моя жизнь — это бесконечный реверанс земле и небу… Я помню, как однажды у нас сломался лифт. Мне с мамой надо было спуститься с пятнадцатого этажа. Не знаю, что это было, как это объяснить, в смысле, мое поведение. Сначала я напевал, потом насвистывал, щелкал пальцами, потом все сразу, словно внутри меня неслась какая–то энергетическая метель. Откуда это чувство неуютности, даже рядом с близким человеком, которое я пытался вытеснить, демонстрируя мурлыканьем, щелчками и свистом приподнятое настроение? Совершить проход по тридцати лестничным маршам просто так, чинно и спокойно, об руку с мамой казалось мне немыслимо. То есть я вполне мог бы сделать это молча, но говорить в это время — нет. Как вы найдете тему, рассчитанную ровно на тридцать маршей, с условием поворота на 180 градусов каждые 30–40 секунд? Это должен быть венок сонетов, а не разговор. Просто молчать я стеснялся, вернее, боялся обидеть…
Когда ради простейшего поступка вам приходиться запускать такие сложные механизмы психологических мотивировок, да еще сработанные на скорую руку, то какой–нибудь второпях кинутый провод обязательно искрит. И это жжение внутри я ощущаю непрестанно.
Вы можете спросить, каким образом этому неврастенику удается завязывать шнурки, не говоря уже об уроках английского. Но я же сказал, что притворство и вообще выделение из собственных недр внешне пристойного образа — мое ежедневное занятие. Каждое утро мне приходится чуть не веником собирать мечтательно раскатившиеся за ночь атомы, из которых я состою.
Этот велосипед я изобрел давно. Просто я стараюсь вообразить себя кем–нибудь другим. И вот, собираясь на первый урок, под регтаймы Джоплина Скотта, так и просящиеся на озвучку чаплиновских фильмов, я измыслил себя лирическим недотепой, которому, однако, благоволит судьба. Рассеянный профессор–эксцентрик в небрежно повязанном галстуке и с плейшнеровской походкой. Для внутренней убедительности я даже купил и сунул в боковой карман плаща газету и, что еще более убедительно, потерял ее на одной из остановок. (Мне пришлось ехать с пересадкой.)
Я оставался уже чуть не единственным пассажиром, когда автобус, сделав хитрую петлю, остановился. Я вышел и побрел, сверяя походку с имиджем, а направление — с бумажкой, на которой был записан адрес. Прожив в этом городе тридцать лет, я ни разу не бывал в этом районе. Самая окраина. Было сыро, пахло грибами, и за заборами кричали петухи. Будь дело к сумеркам, я сменил бы Плейшнера на Хому Брута. Но вот среди этой «деревни» показался единственный городской дом с асфальтированной площадкой вокруг.
Мне нужна была тридцать вторая квартира. Я заглянул в один подъезд, там нумерация начиналась с тридцать восьмой, заглянул в следующий — с восемьдесят девятой квартиры. Других подъездов не было. Плейшнер, понятное дело, растерялся, и мне пришлось отключить его как ненужную в данный момент опцию. Вместо него был активирован невозмутимый россиянин, которому безразлично, как там идет нумерация, если за дверью № 32 ему обещали деньги. Поднявшись на лифте, он прочесал первый подъезд с девятого этажа донизу.
Нету! Зато во втором сработало. Искомая квартира оказалась на девятом этаже. И не ломая себе голову всякими там «почему» — тут же вдавил кнопку звонка, будто опасаясь, что кубики, из которых сложено это панельное чудо, опять перестроятся в произвольном порядке.
Мне открыла стройная небожительница в каком–то белом домашнем интимном одеянии, чуть ли не в комбинации. Просто героиня театра розовых снов. Я почувствовал, что утрачиваю контроль над реальностью. Откуда–то из чертогов неслось буги–вуги, и мне показалось, что сейчас мы исполним с мисс–июль акробатический рок–н–ролл вроде того, что я однажды видел в видеоприложении к «Плейбою».
Трудно было поверить, что это мать пятнадцатилетнего оболтуса, с которым предстоит заниматься. По прохладно сверкающему полу мы прошли в детскую. Комната выглядела уныло, как это всегда бывает, когда дети выходят из нежного возраста, и все эти старые игрушки, наклейки из мультиков и ковер, изображающий улицы некого кукольного городка, смотрятся так нелепо. Долговязый пацан в красной футболке поднялся из вертящегося кресла и проскрипел ломающимся голосом без тени энтузиазма: здравствуйте.
«Я уже занимался с репетитором», — сообщил мальчик.
«Прекрасно. И что случилось потом?» «Потом перестали. Ну, она уехала из города». «Из–за вас?» Он засмеялся: «Не-е».
Я понял, что психологический контакт налажен.
На мое счастье, знания его не шли дальше Future Indefinite[3], а лексический запас был на уровне пятого класса. За два часа мы прошли три новых времени, связали их единой таблицей с теми, что он помнил, и закрепили грамматическими примерами. Напоследок я заставил его немного почитать из учебника. Это было чудовищно, и все в сумме меня очень ободрило. Жилу можно было разрабатывать.
На обратном пути я уже подсчитывал, сколько это получится в неделю, в месяц, в год… Лился золотой дождь, и, как феи, порхали мисс–июль в комбинациях. Остановился я только потому, что дальше уже не мог считать без калькулятора.
Распогодилось, и вечер обещал быть по–летнему длинным. Мне захотелось пройти оставшуюся пару остановок пешком.
* * *
Если двигаться по главной улице с востока на запад, к историческому центру города, что в какой–то мере сродно движению в прошлое, и напротив сквера, где на постаменте царского адмирала стоит, сжимая кулак, незадачливый прапорщик, так и не успевший вытянуть этот кулак вперед и положить наперекрест правой левую руку, дабы явить этим пластический парафраз серпа и молота — эмблемы, из–за которой, согласно легенде, он вылетел в трубу в самом прямом смысле… Так вот, если здесь свернуть направо, вверх, пройти мимо высокой арки, за которой ранняя звезда щекочет фиолетовое нёбо сумерек, и остановиться перед зданием Института Искусств, очень легко унестись в прошлое и оказаться в аудитории, где мой отец ведет занятие, а я расставляю солдатиков на широком, как койка, волнистом от слоев краски подоконнике, покрытом сеткой хиромантических трещин. В одну из них, самую глубокую, вдавлен кем–то окурок.
Я не понимаю, но мне приятно слушать, что говорит студентам отец, и поэтому мне кажется, что я все понимаю. Видимо, мне нравится, как он говорит. Я смотрю на студентов, вижу, что им тоже нравится, и за это студенты нравятся мне.
«Не увлекайтесь гримом, грим — это детская болезнь актеров». Эту фразу я запомнил потому, что, коротая время в гримуборной матери, часто ковырял шпилькой краски в ее гримировальном наборе. К тому же недавно я переболел желтухой. Словосочетание «детская болезнь» тревожит меня воспоминанием о бараке инфекционной больницы на мысе Эгершельд.
Первые, в кого я влюблялся в свои пять–шесть лет, были актрисы местного драмтеатра или студентки отца. Благодаря череде этих детских влюбленностей, я сохранил в памяти эволюцию дамской моды на рубеже семидесятых и несколько имен, за которыми едва розовеют образы их носительниц.
Отец тоже увлекался. Вернее будет сказать — им увлекались. А он не всегда находил в себе силы этому противостоять. Семейные предания включают несколько забавных апокрифов на эту тему.
Моя мама — женщина, чьей красотой восхищались даже завистливые подруги, — была достаточно закалена опытом супружества с моим отцом, который начался с того, что отец не явился на бракосочетание. (Такой, понимаешь, фальстарт.) Она смотрела на его увлечения юмористически. Юмор дался ей не сразу. Думаю, он был последней ступенькой после удивления, обиды, боли и, может быть, отчаянья. Но внучка украинского кузнеца, племянница повешенного партизана, дочь красного командира, разрядившего в энкеведешников магазин винтовки и ушедшего за линию фронта, была не из тех женщин, которые лезут в петлю по пустякам.
Они познакомились в Харькове. Мамин брат Владимир продал аккордеон, чтобы сестренка могла попытать счастья и «выучиться на артистку».
Отец к тому времени уже преподавал. Он успел пройти «школу жизни». Призывная комиссия забраковала его в 1942 и отправила в так называемую «трудармию» на металлургический завод. Попади этот юноша, сын известного украинского драматурга и красавицы шведско–немецкого происхождения, на фронт, меня бы, скорей всего, не было.