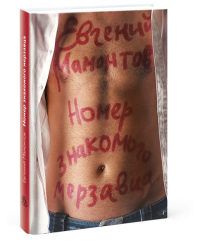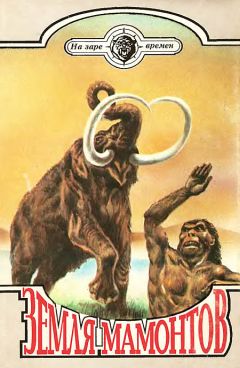Они познакомились в Харькове. Мамин брат Владимир продал аккордеон, чтобы сестренка могла попытать счастья и «выучиться на артистку».
Отец к тому времени уже преподавал. Он успел пройти «школу жизни». Призывная комиссия забраковала его в 1942 и отправила в так называемую «трудармию» на металлургический завод. Попади этот юноша, сын известного украинского драматурга и красавицы шведско–немецкого происхождения, на фронт, меня бы, скорей всего, не было.
В Харькове у них была просторная трехкомнатная квартира рядом с центральным парком и ипподромом. Мой дед получал гонорары за пьесы, а бабушка, Маргарита Фридриховна, — какие–то загадочные проценты с капитала далеких предков из небольшого банка в Шотландии. Они держали домработницу, могли позволить себе покупки в «Торгсине» и поездки на курорт в Евпаторию. Мой отец в детстве часто болел и читал книжки Жюля Верна.
Дедушке Якову повезло. У него был членский билет Союза писателей за номером 167, подписанный Горьким. В украинских творческих союзах он не состоял. Поэтому его не успели расстрелять по популярному в то время на Украине обвинению в национализме. Он умер своей смертью в сороковом году. Уволенный с работы (позволил себе политически невыдержанное замечание), потерявший друзей, куривший ночи напролет в своем кабинете, он подорвал здоровье ожиданием ареста. На похоронах один из его товарищей сделал нелепую, но пророческую оговорку. Вместо того, чтобы заключить надгробное слово фразой: «Мир праху его», он от волнения сказал: «Прах миру его».
Последние годы дед работал над капитальным трудом по теории драмы. В суматохе эвакуации к моему отцу подошел на перроне человек, представился знакомым матери и предложил помочь с погрузкой. Доверчивый юноша отдал незнакомцу самый большой чемодан. В этом чемодане и была рукопись.
От Харькова до Пензы они ехали двенадцать дней. В Пензе, ожидая пересадки, спали под дождем на привокзальной площади. До города Чкалов тащились еще восемнадцать дней, уже в теплушке. На станции Кинель мой отец впервые в жизни увидел верблюдов не в зоопарке. Возможно, он улыбнулся, вспомнив книжки Жюля Верна.
В Чкалове они задержались ненадолго. За «принадлежность к немецкой нации» их сослали в окончательную глухомань — село Домбаровку. Напрасно бабушка писала Фадееву, Молотову, Калинину. Хорошо, хоть Сталину не написала.
Обменивая фамильные драгоценности на тошнотворное мясо сусликов, они дожили до весны, похоронив в простыне (досок было не достать) мою прабабку Франциску Карловну Цумт. Весной отец получил повестку и пошел по степи за двадцать километров в военкомат. Я часто пытался представить себе этот эпизод. Восемнадцатилетний парень, очкарик, один одинешенек (других призывников в Домбаровке не нашлось) идет по степи на войну. «Что ты чувствовал?» — спросил я его однажды. «Счастье, — ответил он. — Степь была красивая. И из проклятой Домбаровки я мечтал вырваться, все равно куда».
В заводском общежитии его в первый же день обокрали и тут же, как ни в чем не бывало, предложили купить украденное у него же добротное отцовское пальто и карманные часы.
Но скоро ему повезло, его назначили учеником мастера, который налаживал весы в столовой. Налаживая, он чего–то там подкручивал в пользу продавцов и за это получал буханку хлеба, которой делился с учеником.
Потом повезло второй раз. Инженер завода приметил несуразного паренька в очках. Заговорил с ним, узнал, что паренек окончил десятилетку, и взял статистиком в свой отдел. Отец сразу укрепился на новом месте, благодаря свободному владению логарифмической линейкой. Вообще, успехи его были таковы, что к концу войны он получил от завода направление в какой–то ВУЗ, связанный с металлургией. Но вместо этого вернулся в уже освобожденный Харьков и поступил на актерский факультет.
С первого курса его чуть не отчислили. Но выпустился он с красным дипломом. С этого момента мы теряем его приблизительно на пятнадцать лет и вновь находим уже популярным радиоведущим, успешно концертирующим с сольными программами актером–чтецом и преподавателем театрального института, идущим по Сумской улице в легком плаще на открытое собрание, где должен обсуждаться его «моральный облик». Предчувствуя свое увольнение, он не терял присутствия духа и даже находился в веселом, боевом настроении. Майские улицы благоухали, дома ждала красавица–жена. По дороге он выпил стакан вина в модной в те времена закусочной–автомате.
Профорг по фамилии Ронжес выступил с обличительной речью. Буквы «р», «ч», «ш», «с» он не выговаривал, что придавало его выступлению гротескный характер фонетической абстракции. Смысл же состоял в том, что мужчина не имеет права заводить роман и потом жениться на девушке, если он преподаватель, а она студентка. Вероятно, ни софисты, ни Цицерон, ни легендарный Плевако, ни сам Вышинский не рискнули бы взяться за такую тему, хотя бы в качестве риторического упражнения. Но несчастный Ронжес был евреем и хорошо помнил кампанию против «безродных космополитов». Каждое слово этой фарсовой речи изнанкой своей выражало вопль: «Я ваш! Наиверноподданнейший!» Мой отец это понимал. Он был спокоен в продолжение всего выступления, до тех пор, пока из косноязычных уст Ронжеса не выцарапалось слово «нецицтоплотноцть». Тогда отец встал и, буднично обронив, что не намерен слушать глупости дальше, направился к выходу, отразив прямой актерской спиной начальственный окрик председательствующего: «Вернитесь!»
Он не вернулся. Он поехал с мамой в Ялту.
Чем чаще я думаю об отце, тем больше его жизнь приобретает черты четкой осмысленности и эпической завершенности. Сколько ни думаю о своей — сплошной сумбур, коллаж осколков. Тут ничего удивительного. Просто его жизнь завершена, и поэтому выглядит цельно, осмысленно, а моя — нет.
Это соображение в первый раз натолкнуло меня на одну мысль. А именно — зачем я живу, как я? Что если мне жить, как мой отец? И такая идея меня обрадовала. Я купил в магазине сайру, зеленый лук и позавтракал на застеленном газетой столе, как это делал отец (мы с отцом), когда мама была на гастролях. Вспомнив, что отец не курил, я заставил себя отказаться от традиционной вечерней сигареты.
В награду мне приснился чудесный сон, из тех, что невозможно пересказать. Я принял душ и не спеша завтракал, стараясь вновь сосредоточиться на вчерашней идее.
Осенью, вернувшись из Ялты, они выбирали между Ташкентом и Магаданом. Из обоих городов пришли приглашения на работу. Потом пришло еще одно, из Владивостока. Магадан и Ташкент, каждый по–своему, казались уж как–то «слишком». Разумеется, по–своему «слишком» был и Владивосток. Я представляю, как отец, всегда питавший слабость к экзотике, глядел в воодушевленном молчании на географическую карту. Он выбрал крайнюю точку — Владивосток.
Харьковские друзья моих родителей были потрясены и называли молодую пару на украинский манер: «землепроходцы». Провожали так, будто они отправлялись в Африку или даже в космос. На шестой платформе Южного вокзала собрались мамины родственники с домашней снедью, папины коллеги с цветами, мамин педагог, профессор Глаголин, с двумя бутылками шампанского, папина мама со слезами на глазах. Прощались словно навек.
Поезд тронулся, пошел снежок… Когда доехали до ближайшей станции Основа, отец посмотрел на часы. Прошло тридцать минут. Догадываюсь, что он подумал, ведь Основа находится в городской черте Харькова.
Скорый поезд доставил их к месту за восемь суток. Из окна купе отец фотографировал заснеженные пейзажи. На станции Петровский Завод выбегал в пиджачке на заметенную платформу посмотреть памятник декабристам. Шестидесятник, что вы хотите!
Прибыли вечером 11 февраля. Помню, что почти каждый год в этот день отец говорил: вот ровно десять (тринадцать, пятнадцать, семнадцать, двадцать пять, тридцать) лет назад мы с Надей…
Расположившись на первую ночевку в одной из институтских аудиторий, они вышли пройтись по главной улице. Магазины были еще открыты, тепло светились изнутри. Именно в магазинах они впервые удовлетворили — зрительно — тягу к местной экзотике: рыба в маринаде, под белым и красным соусом, креветки, трепанги, икра морских ежей — невиданные для Украины яства. Потом подошли к морю. Ближайший пирс был в пяти минутах ходьбы от института.
Побрившись и разглядывая флакон с дешевым одеколоном «Charle», вспомнил запах огуречного лосьона, которым пользовался отец. Продается ли он сейчас?
В этот день у меня было два урока. Первая ученица недавно сменила балетную школу на колледж. Ее невежество, уникальное даже для пятнадцатилетней, сочеталось с заторможенностью. Я не мог представить ее у балетного станка. Ни читать, ни писать по–английски она не умела, не знала даже алфавита. Говорит, что до меня занималась три месяца с другим репетиром. Весь урок она отсутствовала взглядом. Под конец, когда я повторил ей задание, тыча карандашом в столбик выписанных слов: «обязательно выучить к следующему разу», она вяло кивнула и после паузы спросила: «А перевод тоже учить?»