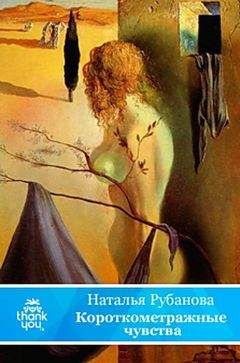— Деточка, не убивайтесь… я вам сейчас попить принесу… Такая молодая, славная, а так плачете — разве можно?.. Я так в войну не рыдала! Утритесь, — она вынула из кармана белоснежный носовой платок и помогла Лене встать. — Пожалейте себя… Пожалейте — тогда все хорошо будет. Обещаете?
Угукнув, Лена каким-то нечеловеческим усилием заставила себя дойти до зала и снова попала в пространство, в котором Павлик бодро заявлял о себе: да, пишет давно, «учителей»-предшественников у него нет, но все же Драйзер и Бальзак… в какой-то степени… Из современной прозы? Нет, с современной он мало знаком, но вот все эти пелевины-стоговы-сорокины, конечно, не в его вкусе. Нет-нет, литература — это нечто другое. Что, женская проза? А разве женщина может быть писателем? Это скорее дань моде, так он думает. Дань моде и желание доказать что-то мужчине. Вы говорите, Улицкая? Толстая? Да, неплохая беллетристика, но не более. Нет-нет, он не считает… Он считает как раз наоборот, и, хотя так считают совсем немногие, считать так могут позволить себе лишь по-настоящему не зависимые ни от кого люди, считающие, что…
Лена, присевшая около двери, будто впервые посмотрела на Павлика, несшего полную ахинею, со стороны (впрочем, бабки, жившие неподалеку и не пропускавшие ни одного творческого вечера, ели и это — быть может, им просто хотелось выйти из дома, бабкам, а деться оказывалось некуда?) — и вспоминала. Вот она, юная, и он, чуть старше, но, в сущности, козленок… Какие-то гости, нескончаемое шампанское… Он ее приглашает — да чем она, Лена, хуже какой-нибудь Параши Ростовой? А вот дача, где у старой яблони он кажется таким влюбленным и лишенным кожи… Он читает ей свой рассказ: и еще, еще… Он читает для нее! Еще, еще, нетерпеливый! После прозы легче переходить в постель, особенно если та — о любви, хоть и дурной.
— Эй, дама, подвиньтесь! — человек, от которого неприятно пахло, плюхнулся на скамейку рядом с Леной, и та поспешно встала. — Куда же вы уходите, дама? Куда ты, сука, торопишься, а? Стерва, гнида вонючая, — он еще долго изрыгал нечто подобное, но Лена уже быстро-быстро шла по Большой Никитской и криков его не слышала.
Она действительно очень спешила: Павлик весь вечер просидел голодный — наверняка не разогрел котлеты! И суп тоже… Хороший такой, вкусный суп, какой он любит… с протертыми овощами, — не разогрел… Бедный Павлик! Она-то переживет, она двужильная, а Павлик работает над новым романом, у него не клеится… Разводит сюжетные линии… Надо бы быть с ним помягче… Поласковее… Не отвлекать понапрасну, не тревожить… Писатель — натура тонкая…
Лена прибавила шагу, а спустившись в подземный переход, остолбенела — настолько щемящей показалась флейта худенькой девочки, настолько знакомой — мелодия… Мелодия ее самого первого чувства… Лена замерла, ловя каждый звук: так каким-то невероятным образом ее мысли стали превращаться в собственную противоположность. Вот она — самая обыкновенная женщина самого среднего возраста с самым обыкновенным именем и такой же внешностью — тянет время, чтоб только не идти домой, где Павлик создает новый шедевр: муки его творчества — муки ее ада. Вот она, руки в брюки, слушает Альбинони, понятия не имея, что это именно Альбинони. Вот она, Лена, понимает, что могла бы жить иначе, по-другому, да совершенно не так! — ходить в то же кино, сидеть в кафе, а может, даже рожать, не задумываясь о том, назовет ли это Павлик бессмысленным или банальным. Да она, Лена, могла бы свернуть горы… Черт… Зачем эти злые слезы… Она же сильная, она научилась обходиться безо всего, что так любит: французских фильмов, встреч с друзьями… Да даже без ванильных пирожных! И без детей… тоже вот научилась…
Положив в кепку флейтистки десятку, Лена выбежала из перехода и, достав мобильник, набрала по памяти номер: «Можно у тебя переночевать? Ты еще разведен…» — «Что? Ленка, господи, ты? Что-то случилось?» — «Нет, просто переночевать».
Она еще не знала, что в это самое время язык Павлика уже вывалился изо рта, а лицо посинело: впрочем, повесился он весьма удачно. Ангел смерти, оценив качество его души и тела, задал, как и полагалось по Уставу, традиционный вопрос самоубийце, не страдавшему при жизни психическими расстройствами:
— Ты это, дурак, зачем сделал? Или не знаешь, что не положено?!
Экс-Павлик пожал тем, что было теперь у него вместо плеч, и, ничего не ответив, перелетел на миг туда, где его бывшая жена обнимала небритого долговязого человека и, улыбаясь, превращалась из обыкновенной женщины в самую настоящую Елену Прекрасную, — но перелетел, конечно, только на миг.
А бывает: топчешь улицы, топчешь, глаз в асфальт, словно в зеркало, до головокружения, до тошнотиков — глаз не подымешь! — а там, куда не подымешь — высок — дом; да не дом даже, а ДОМище целый — с балконами и разными штуками готичными (вот и привязалось словечко), названий которых не знает Та и узнать не стремится. («О, вечная невнимательность! О, раздраженная спешка! О, бесцельно прожитые годы! О, лень и безалаберность! О, выплеснутый с водой ребенок! О, выброшенные на ветер деньги! О, виртуоз спиртуоза! О-о! Однако… Уфф. Дубль, пожалуйста. „Снято!“ За что еще теперь должно быть стыдно?») Так вот: ходила младёшенька — как по борочку, по Немереному этому Пространству не год и не два, ягодой земляничкой не давилась, однако ж ноженьки о былинки накалывала. И в сует суете пропустила самую главную главность, самую нужнейшую ненужность, самую сладчайшую горечь, самую горькую сладость. Да и как могла она на той сфокусироваться, когда: то чувства-с, то спиртуоз, то на работку, а то и просто — вы-ход-ны-е от: чувств-с, спиртуоза, работки, выходных, в которые (кому-то) надо, как известно, куда-нибудь выходить. О, это-то и оказывалось наичуднейшим (жаль, короткометражным) моментом славной ее свободы. Тогда-то Та и вертела головой по сторонам, а на стороне той самой главной главности, нужнейшей ненужности, сладчайшей горечи и горчайшей сладости разглядеть не могла. И стоило-то — всего лишь! — через тернии к звездам, в небо, блин (да хоть до крыши дотянуться!) — ан нет.
Впрочем, время было «не то», а старые черные джинсы давно не впору: да как она вообще в них дышала? И не то чтоб не влезть сего дня, тело как будто прежнее, однако… «Миллиметров, отделяющих меня, сегодняшнюю, от нее, из прошлого века, не разглядеть. Пропасть же между дивачками огромна».
Надо (ли) прыгать(?)
Впервые они обрезались взглядами, когда Та отвернулась от тетки с зашипованными цветами: «Роза-ачки! Роза-ачки! Па-а-ку-па-а-ем, де-ва-ачки!» — и повернулась, было, к ларьку, чтобы попросить минералки. В то время, когда Та пила спиртуоз чаще теперешнего, ларь стоял именно на этом месте. Однако годы спустя Та обнаружила вместо него жалкий фантом, усмехающийся ей сквозь тысячадевятисотку века, который подросшие киндеры из этих вот самых колясок, разруливаемых маячащими перед ней в 199… году важными мамками, станут многозначительно называть «прошлым». Хм! Та презрительно покосилась на стеклянную громаду: нет, эти улицы, эта площадь никогда не увязывались у нее с такой пошлятиной, как супермаркет (тогда еще не построили), поэтому Та предпочла страдать без живительной влаги, но только не скользить, будто воровка, в услужливо раскрывающиеся двери Монстра, съевшего те, ее, ларьки. А все потому, что захотелось побыть, хм, юной и беззаботной. Как тогда. Как тогда. («А была ли ты юной и беззаботной? Если первое допустимо, то со вторым я готова поспорить!» — «Цыц! Цыц, девчонка! Я так хочу!») Заткнув рот внутреннему голосу, Та подняла глаза к небу — ведь именно так она делала, будучи юной и беззаботной, — и увидела его. Да нет, нет, что вы там подумали! Не его со спиртуозом, а именно его. «Как классно! С крылышками! — ее нисколько не смущало, что его видит только она. — А махонький-то какой, махонький-то!»
Он тем временем подлетел к ней и, приземлившись, поприветствовал: ей, конечно же, показались знакомыми эти Малыш-и-Карлсоновские мотивы.
— Привет, Шу! — Та не нашлась что ответить, да и какая она ему Шу, тарам-пам-пам? Но он не отставал: — Ну что ты молчишь, трам-та-ра-рам? Нет бы сказать: Привет, Хулигангел! Или не знаешь, кто я?
— Теперь знаю, — пробормотала Та и тут же бодренько так заявила, подбоченясь: — Привет, Хулигангел!
— Так-то лучше. Ну, рассказывай, — он потер свои миниатюрные ручки, в которых еще секунду назад сжимал сломанную стрелу от лука — как показалось Той, окровавленную: сказки, впрочем, до добра не доводят.
— Что рассказывать? — замялась Та, ведь, в общем-то, они даже не были знакомы, и она имела право на частичную, никому, кроме себя самой, не заметную неловкость. Но в том-то все и дело, что неловкость ее оказывалась слишком видимой, а уж для Хулигангела-то и подавно. Он рассмеялся: