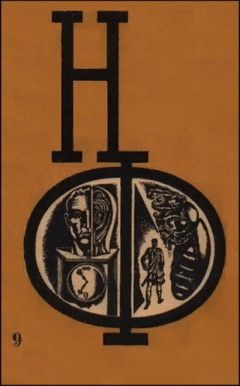— Почему? — спросил Воробей. o:p/
— Не очень я нужный свидетель для всех них, включая комиссара. Слишком много знаю, слишком до многого своим умом допер… o:p/
Это Воробей тоже не очень понял. Ему хотелось, чтобы Скворец оставался рядом с ним всегда, — где еще найдешь такого друга? Ведь очень велика вероятность, что они на одном и том же заводе учениками окажутся — Скворец раньше, Воробей позже — может, Скворец к тому времени уже квалифицированным рабочим будет, и Воробей попадет в ученики не к кому-нибудь, а прямиком к Скворцу… o:p/
Но действительно, Скворца поздней осенью услали куда-то за тридевять земель, в Среднюю Азию, а Воробей через три года оказался в одном подмосковном местечке. Вот так и разошлись их пути… o:p/
— Главное, что Тамарку спас, — сказал Скворец. — Больше ее никто не тронет, даже если меня рядом не будет. o:p/
Воробей задумался: o:p/
— Да, насчет Тамарки, — сказал он. — Ведь ничего у нее не было с поваром, так если б ее врач проверил — ведь это только оправдало б ее, разве нет? o:p/
Скворец вынул папиросу изо рта, поглядел на ее сизый дымок, ленточкой утекающий вверх, и сказал с задумчивым недоумением: o:p/
— Странный ты все-таки, Воробей. Иногда — смышленей некуда, а иногда — дурак дураком. o:p/
Молчание, установившееся после этого между ними, длилось довольно долго. Только речные чайки порой хрипло покрикивали, да ветер с легким шелестом пробегал сквозь кроны деревьев. o:p/
— Это… Это твоя первая женщина? — вдруг спросил Воробей. o:p/
Скворец кивнул. o:p/
Воробей поглядел вдаль, за речку. Он чувствовал в себе легкую зависть — не потому, что Скворец уже испытал то, о чем ребята много рассказывали, а потому, что он полно и глубоко проникся ощущением того хорошего и светлого, которое угадывалось в легком кивке Скворца. В нем возникло непередаваемое в словах понимание отношений между Тамаркой и Скворцом — отношений, прямо противоположных тому, что ему привиделось в отношениях между военруком и Татьяной. Насколько там было все антиестественно и уродливо, настолько здесь было все естественно и красиво, настолько любовью и жизнью полнился и дышал союз — скоротечный или нет, кто знает — этих двоих… Одним небрежным кивком Скворец заложил в него глубинное понимание того, что такое любовь, и насколько она может быть по-земному прекрасна. Для Воробья, все знания которого проистекали из матерщины и сальностей окружающих, это было потрясающим открытием… И ему хотелось, чтобы он, когда придет его срок, тоже пережил это так же красиво… Он многое увидел теперь другими глазами — он понял, что Скворец ради Тамарки совершил почти невозможное, — как понял и то, что нет такой вещи на земле, которой Скворец не совершил бы, чтобы защитить свою любовь. Одновременно он с новой, морозящей ясностью почувствовал весь ужас того, что произошло с ними за последние двое суток, — как и постиг интуитивно, где корни этого прорвавшегося на поверхность ужаса, — скорбное прозрение пришло, что корни эти не выполоты, а выполоть их не под силу даже Скворцу, и что ничегошеньки-то они не победили, а лишь на время отгородили себя — своим малым выигрышем… Но ведь они не уступили — и никогда не уступят — и, быть может, в этом залог того, что ужас не вечен, что он развеется когда-нибудь дымным призраком… Что они — малые и ничтожные — несут в себе ту силу сопротивления, при столкновении с которой любая махина кошмара рассыплется в прах. В Скворце эта сила была изначально, а теперь он щедро поделился ей с Воробьем, вдохнул ее в него, чтобы она и в Воробье жила и крепла. o:p/
Скворец перехватил устремленный за реку взгляд Воробья: o:p/
— На том берегу незакрытая церковь есть, и вроде даже с чудотворной иконой, — проговорил он. — Если приглядишься, увидишь купол и крестик — вон там, совсем крохотные… Дед рассказывал, ее тоже закрыть хотели, но не получилось. Мол, Порченый со своей командой приехал, сразу в церковь — и наган выхватил. Священник уже решил, что его последний час настал, и молиться начал, чтобы Бог его грехи простил и его душу покаянную принял, но Порченый в священника стрелять не стал, в икону эту нацелился. И не успел первый раз курок нажать, как с ним один из его припадков сделался. Пуля в потолок ушла, а дальше ему уже не до стрельбы было. Его выволокли из церкви, пока его колотун трепал. И уехала вся команда подобру-поздорову. И больше не возвращалась… Не знаю, что тут правда, что нет, но дед клянется и божится, что так оно и было, что вся округа про это знает… — Скворец встал, потянулся, разминаясь. — Если и правда, то все равно они в конце концов и до этой церкви доберутся, и священника порешат, и икону уничтожат, и никакое чудо не поможет. А насчет деда… Он сегодня ночью опять на промысел собирается, и я с ним. Хочешь, тебя с собой возьму? o:p/
— Конечно, хочу, — сказал Воробей. o:p/
И они пошли от берега по предзакатной лесистой дорожке, где каждый листик светился литым проникающим золотом, уже чуть тронутым нежно- розовыми оттенками. Легкий трепет пробегал сквозь эти золотисто-зеленые волны, и, чуть отставая от трепета, промелькивала по ним синевато-огненная рябь невесомых теней — сами тени казались сгустками уплотненного света. И почудилось на миг, вся жизнь их будет подобна этой тихой дорожке… И Воробей думал почему-то о чудотворной иконе — и по-детски не сомневался, что здесь-то Скворец и не прав, ничего не случится ни с церковью, ни с иконой, ни со священником — если надо, то и чудо произойдет… Просто так хотелось чего-нибудь чудесного — чудесного, распахнутого в будущее заманчивым обещанием, несмотря ни на что. o:p/
Кублановский Юрий Михайлович родился в 1947 году в Рыбинске. Окончил искусствоведческое отделение истфака МГУ. Поэт, критик, эссеист. Живет в Переделкине. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
* * o:p/
* o:p/
o:p /o:p
Что узнала душа зэка, o:p/
чьё тело с биркой o:p/
осталось в промороженной яме, o:p/
не догадываюсь никак. o:p/
Быть может, ей уже и не надо o:p/
было спрашивать ни о чём. o:p/
o:p /o:p
Но мы-то тут проживаем в недоумении, o:p/
которое есмь соблазн: o:p/
ибо простой вопросец — o:p/
зачем же так? — o:p/
мешает чистосердечному покаянию, o:p/
вводит в прелесть, o:p/
что всё тщета, o:p/
и мешает духовной мобилизации. o:p/
o:p /o:p
Живём в сомнении, в расслабухе: o:p/
одно дело — праведные байки o:p/
про «жизнь после смерти» o:p/
заокеанских баптистов, o:p/
побывавших в коме o:p/
на проглаженных простынях, o:p/
o:p /o:p
другое — смерть Мандельштама, o:p/
несметных узников лагерей. o:p/
o:p /o:p
Своими сомнениями o:p/
совестно мне делиться, o:p/
выставляя на всеобщее обозрение o:p/
йоту веры своей, o:p/
o:p /o:p
но во мне они, что кислоты, o:p/
разъедающие остаток дней. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
o:p /o:p
* * o:p/
* o:p/
o:p /o:p
Слабая лента с Моникой Белуччи — o:p/
шеи взъём, у плеча бретелька — o:p/
старикам, подсевшим на сериалы, o:p/
может показаться шедевром. o:p/
Человека, которому под полтинник o:p/
и которому нравится мир всё меньше, o:p/
взгляд трезорки встречного сиротливый o:p/
может отрезвить и прибавить силы, o:p/
даже устыдиться своей щетины. o:p/
Стал уже привычнее матерщины o:p/
бронхиальный кашель для перепонок. o:p/
У шалмана подвыпившие мужчины o:p/
ждут из туалета своих бабёнок. o:p/
o:p /o:p
Неожиданно прихватил морозец o:p/
барбарис, рябину и черноплодку, o:p/
хорошо их ягоды класть за щёку, o:p/
под язык — и мне это винограда o:p/
ну, не слаще… o:p/
А просто душа им рада. o:p/
o:p /o:p
И красавица итальянка в теле, o:p/
что почти не кажется человеком, o:p/
и бездомный пёс, что всегда при деле, o:p/
и плоды из русских садов под снегом o:p/
пусть пока не знают, кто им хозяин. o:p/
Помнишь карамазовский пестик в ступе? o:p/
o:p /o:p
Хоть московских гетто, то бишь окраин, o:p/
огоньки всё ближе к моей халупе. o:p/
o:p /o:p
o:p /o:p
* * o:p/
* o:p/
o:p /o:p
Оставлял подруг, поступился славой o:p/
и баблом — за ради живого слова. o:p/
Целый день один, не звонит мобильник, o:p/
не по разу читаны с полок книги. o:p/
Но зато не предал свои привычки, o:p/
ни когда другие прогнули выи, o:p/
ни когда столичные истерички o:p/
без ума от шоковой терапии o:p/
на меня клепали, что чуть не красный. o:p/
Выходил в опорках на босу ногу o:p/