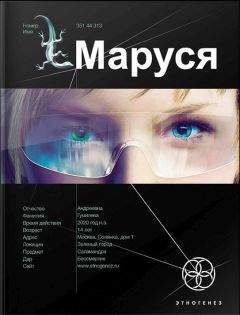Сверху площадь перед Центром Помпиду походила на палубу корабля и в довершение сходства там была установлена пароходная труба, выкрашенная в голубой цвет. Маруся отчетливо помнила, как Пьер впервые привел ее сюда. Сперва они решили подняться на самый верх, а потом уже спуститься в библиотеку. Наверху находился ресторан, кафе, и можно было выйти на открытую площадку и полюбоваться видом Парижа. Вокруг было много иностранцев, слышалась немецкая, английская речь.
Маруся сразу заметила группу толстых русских женщин, одетых, несмотря на жару, в кожаные пиджаки, и вслух громко восхищавшихся красотами Парижа. Сверху было видно все, там, где была Сена — по словам Пьера, потому что самой Сены не было видно из-за домов — Маруся видела много устремленных вверх башенок, остроконечных, украшенных разными вырезными штучками, но она не могла понять, где же находится Нотр-Дам, зато Эйфелева башня была видна прекрасно, и Маруся подумала, что надо бы туда сходить, подняться на нее. Она сказала об этом Пьеру, который весь перекосился и ответил, что это очень дорого стоит, и вообще, все эти «истерические памятники» его не интересуют — он нарочно так говорил, чтобы было смешнее, он вообще любил переиначивать слова и часто отпускал каламбуры.
В свое время Пьер выпустил книгу стихов, которые написал в психбольнице. Книга называлась «Я — параноик». Стихи, в основном, состояли из игры слов, книгу никто не покупал, и издатель потом был вынужден за свой счет выкупать ее из магазинов, после чего полностью разорился. Пьер рассказывал об этом со смехом, повторяя свою любимую фразу: «Все это глюпости!»
Маруся с Пьером спустились на третий этаж в библиотеку. В библиотеке повсюду были установлены компьютеры и телевизоры. На стуле перед одним из телевизоров сидел бородатый старик, неподвижно уставившись на экран. Потом Маруся постоянно видела его здесь, — он перемещался от одного телевизора к другому и смотрел подряд все программы: из Англии, Германии, Испании и других стран. Ботинки у старика были подвязаны веревочками, и сам он был весь обтрепанный, от него сильно пахло мочой. Маруся с Пьером прошли в угол огромного зала, туда, где стояли стеллажи с русскими книгами. Возможно, от вида корешков русских книг, Марусе внезапно захотелось поговорить по-русски, она почувствовала, что уже давно не говорила по-русски, а все по-французски, и от этого у нее устали губы и даже язык.
Они снова спустились вниз. Пьер отправился в туалет, а Маруся ждала его в холле, где под самым потолком, рядом с портретом Жоржа Помпиду висело нечто огромное и странное, напоминавшее половинку гигантского яйца, выкрашенную в желтый и белый цвета. Тут к ней, на ходу застегивая штаны, подошел Пьер. Он ткнул пальцем наверх и спросил Марусю, что ей это напоминает.
— Для меня, — тут же сказал он, не дожидаясь ответа, — это огромное яйцо!
О яйцах у Пьера была разработана целая теория, он считал, что по тому, как человек ест яйца, можно понять, как он относится к факту своего рождения. Сам Пьер, когда ел яичницу-глазунью, воинственно вращал глазами и с подчеркнуто театральным остервенением втыкал нож прямо в желток яйца. Он относился к факту своего рождения крайне отрицательно.
Чтобы поменьше находиться в доме у Пьера, Маруся потом часто ходила в Центр Помпиду и проводила там весь день, с открытия до закрытия; она приходила к двенадцати часам, вместе с первыми посетителями и выбирала себе в библиотеке лучшее место — на стуле, лицом к большой стеклянной стене, где можно было читать книгу, а когда надоест — смотреть вниз, на людей на площади. Она проводила так по много часов, если ей хотелось есть, она доставала кусок булки, который предусмотрительно брала с собой из дому, и пластмассовую бутылочку с водой, воду в бутылочку она набирала в туалете, выходить было нельзя, иначе потом пришлось бы снова стоять в очереди на вход.
Маруся была в старом джинсовом полупальто, который она купила на Блошином рынке на Порт де Монтрей за пятьдесят франков у араба, она все время ходила только в нем и не снимала его даже в доме у Пьера, потому что там было очень холодно. Ей очень не хотелось возвращаться туда, но вечером, когда автоматический голос объявлял, что Центр закрывается, она с чувством тоски и обреченности вставала, брала свою сумку и шла к выходу, утешая себя мыслью о том, что ведь еще нужно ехать в метро, потом идти, и еще много времени пройдет, прежде чем она снова окажется в этом жутком доме.
В Петербурге Маруся тоже часто ходила в Публичную библиотеку. Она любила сидеть в зале Основного фонда за первым столом, спиной ко всем, лицом к окну, и прямо напротив она видела угол Гостиного Двора, чуть справа внизу — кусок Невского с голубоватыми фонарями, и по нему ехали машины, а сверху падал снег, или дождь, и всегда было темно, и всегда с неба что-то падало, а Маруся сидела за этим столом и часами смотрела в окно, забыв про раскрытую перед ней на столе книгу. В зале Основного фонда всегда было много народу, как правило, все места заняты, и худенькая девушка ставила стремянку, чтобы достать книги сверху. Маруся сидела и смотрела в окно, постепенно впадая в полнейшую прострацию. Она как бы парила, летела над городом, под этим низким серым небом и смотрела сверху на него, это было наяву, она уже не раз пролетала там, и могла лететь все выше и выше, а могла — совсем невысоко, и если ей угрожала опасность, или просто какая-то неприятность, то чтобы ускользнуть, нужно было просто подпрыгнуть и так немного задержаться, а потом делать так, как будто плывешь. Погружаясь в это особое пространство, Маруся как бы оставляла свою оболочку, свое тело внизу, за столом, и могла обрести относительную свободу.
Иногда, правда, эта свобода становилась тяжестью, легкость исчезала и Маруся погружалась в какое-то особое темное пространство, причем чем дальше она продвигалась вглубь, тем темнее и темнее становилось, и постепенно уже было нечем дышать, и оставалось только срочно выскакивать обратно на свет — а вдруг не успеешь? В таких состояниях Маруся иногда ловила кайф, и постепенно привыкла к этому так, что они стали ей необходимы как наркотик. Она чисто бессознательно вызывала в себе эти ощущения. Возможно это был путь к безумию, у каждого он свой. Всем нужно пройти через эти особые пространства, у одних они яркие блестящие, слепящие, у других — темные, мрачные и душные, но всегда, как правило, в этом есть свой особый кайф, больше, чем в пьянстве или куреве.
В тот первый раз, когда они с Пьером вышли из Центра Помпиду на улицу, было очень душно, Маруся чувствовала, что задыхается от жары и выхлопных газов тысяч машин, она боялась, что потеряет сознание и упадет прямо здесь, на улице, в толпе прохожих, целиком окажется во власти враждебных ей людей. На площади перед Центром толпился народ. Больше всего людей собралось вокруг мужчины, который запихивал себе в рот огромную саблю. Зрелище было не из приятных, и Маруся хотела идти дальше, но Пьер остановился и, точно зачарованный, стал наблюдать за ним, самозабвенно ковыряя в носу. Потом, когда мужчина благополучно проглотил и вытащил назад свою саблю, Пьер подошел и дал ему один франк.
— Это страдание, — с серьезным видом пояснил он Марусе, — он страдает.
Они повернули на одну из узких улочек, справа от Центра Помпиду. Пьер подошел к окну, открытому прямо на улицу, в котором стоял араб и продавал бутерброды и напитки. Насаженный на шампур огромный кусок мяса медленно вращался над зажженным пламенем. Продавец в белом фартуке отрезал ножом от этого куска мясо, клал их на булку, добавлял салат, жареный картофель, разные соусы, и получался очень аппетитный бутерброд. Все это стоило двадцать франков. Пьеру очень хотелось есть, да и Маруся тоже проголодалась. Пьер остановился перед окном и со страдальческим видом смотрел на продавца.
— Он — арабский, — пояснил он Марусе по-русски. Маруся ждала, что же будет дальше.
Подходили люди, покупали бутерброды и отходили, а Пьер с Марусей все так и стояли, как вкопанные. Продавец с насмешкой смотрел на них. Наконец Пьер решился. Он подошел поближе и спросил, можно ли положить вместо салата побольше жареного картофеля. Продавец ничего не имел против. Пьер снова задумался. В волнении он ковырял в носу и облизывал пальцы. Марусе это надоело, к тому же и продавец смотрел на них с нескрываемой насмешкой. Наконец Пьер все-таки достал из кармана две монеты по десять франков и протянул их продавцу. Тот сделал ему бутерброд и даже завернул его в белую бумажку. Пьер взял бутерброд и, разломив его пополам, половину протянул Марусе. Маруся была очень голодна, поэтому прониклась признательностью к Пьеру.
Они сели на скамейке на площади под деревом и стали жадно есть. Тут же к ним подошла толстая девочка в грязном засаленном платье и стала что-то жалобно говорить, протягивая руку. Она просила милостыню. Пьер отвернулся от нее, но она тоже перешла на другую сторону скамейки и продолжала просить. Тогда Пьер протянул ей бутерброд. Девочка отрицательно покачала головой и снова настойчиво протянула руку.