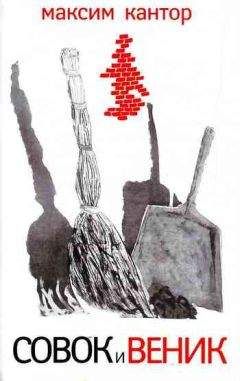День я проводил в мастерской, а вечером возвращался назад – к чистой жизни. Уходил из мастерской всегда последним. Мои печатники (Мэлвин, Колин, Доменик) уходили в семь, а я работал до десяти. Однажды засиделся до одиннадцати, посмотрел на часы и испугался, что пропущу последний автобус, придется долго идти до метро. Я выбежал из здания, захлопнул за собой железную дверь с кодовым замком, помчался к остановке – и увидел фары уходящего автобуса. Следующий придет (если вообще придет) только через полчаса. Ждать было холодно, и – как и все, кто мерзнет, – я обхватил себя руками и тут же понял, что второпях не взял со стула пиджак. Поняв это, я приуныл.
В мастерской остался пиджак, в карманах которого находились ключи, бумажник, телефон – словом, все то, что делает человека человеком. От небытия и варварства нас отделяет тонкая пленка, набор мелких предметов: кредитные карточки, память мобильного телефона, ключ от квартиры, записная книжка, паспорт. Вот отняли у тебя эту чепуху, и ты гол и беззащитен перед природой. Что бы я сказал полисмену – если бы таковые водились в Брикстоне? Иногда полисмены совершают показательные рейды по этому неблагополучному району – едут на трех джипах разом, а пройтись в одиночку по улицам Брикстона после десяти вечера никому из них не хочется. В нашей мастерской работал один парень, Сирил – он пробовал стать печатником, потом сделался полицейским, потом спился. Я встречал его в харчевне у Дианы, он вечно сидит там пьяный со своей беззубой подружкой. Он мне и рассказал, что быть полицейским в Брикстоне хреново: обязательно побьют. Впрочем, он же мне сказал, что его дама не вставляет себе зубов намеренно: отсутствие зубов делает оральный секс в ее исполнении незабываемым. Так что не поручусь, что сведения о полицейских вполне достоверны: видимо, некоторых полицейских в Брикстоне бьют, а кого-то и нет. Это как с наличием зубов во время акта любви – кому что нравится.
Короче говоря, я стоял на пустой улице – и деться мне было некуда. Добраться до своего буколического дома в Хемпстеде было не на что – даже фунта на метро не было. (Тогда билет в метро стоил один фунт двадцать пенсов, чудно вспоминать). Я обшарил карманы – и двадцати пенсов не было на звонок другу. Попросить двадцать пенсов у прохожего? В Брикстоне не хотелось этого делать – прохожие в Брикстоне расположены скорее забрать, нежели отдать. Впрочем, и прохожих не наблюдалось, и я подумал, что это, пожалуй, хорошо, что прохожих нет. Один я хожу туда-сюда. Прошелся до перекрестка, вернулся обратно. Бессмысленная ходьба. Пешком идти в Хемпстед? Через мост, через весь город? Часов за пять, может, дойду, если не заблужусь в Южном Лондоне. И как без ключей попаду домой? Лезть по водопроводной трубе на третий этаж не хотелось. Да и не влезу я по трубе. Я стоял на Coldharbour, было темно, поздно, холодно. Я вспомнил про обычай чикагских гангстеров вшивать сто долларов в подкладку пиджака – на всякий случай. Впрочем, пиджак я все равно забыл. И кстати, найди я бумажку в сто долларов – что бы я с ней сделал? Метро все равно закрылось. Я бы мог расплатиться с отелем, подумал я. Да, именно так: за сто долларов можно получить ночлег. Как же я раньше не сообразил: существуют гостиницы! Я ведь в цивилизованной стране!
Переночевать в гостинице – естественная, вообще говоря, мысль, меня посетила не сразу по простой причине: в Брикстоне гостиниц нет. Ну, как вы себе это представляете? Приехал турист в Лондон и думает: снимука я номер в Брикстоне? Нет в мире таких туристов. Вот и гостиниц в Брикстоне нет. Я поплелся вверх по Coldharbour, заглядывая в темные окна. Бедный район отличается от богатого тем, что там нет ночной жизни, а нищий район отличается от бедного тем, что там есть некая ночная жизнь, но лучше бы ее не знать. Большинство домов стояли темными, но в некоторых горел свет и там темные люди обделывали темные дела. Заглянув в такие окна, я тут же бросался прочь, опасаясь, что они заметили соглядатая. Я не расист, честное слово, но ночной поход через Брикстон мне совсем не понравился. Так я дошел до бара «Funky Monkey», где темные личности все еще пили – и зашел внутрь. Нет нужды описывать бар: всякий видел такие заведения в кино про бандитов из предместий. Вероятно, режиссеры тратят большие деньги на создание злачной и отчаянной обстановки – в случае «Funky Monkey» эффект достигнут естественно.
Я спросил у хозяина, огромного негра со сломанным носом, можно ли мне поспать в углу. Негр предложил купить выпивку, а уже потом спать. Я сказал, что у меня нет денег, и негр обшарил меня цепким взглядом, задержал взгляд на часах.
– Можешь поспать наверху, – сказал он.
– Но мне нечем платить.
– Отдай часы.
– Давай лучше договоримся: утром я от тебя позвоню друзьям, они занесут деньги.
– Оставь до утра в залог часы.
– А ты мне их вернешь?
– Man! Ты хочешь меня обидеть. Я честный человек. Я напишу тебе расписку.
Несколько темных людей сгрудились у стойки и стали писать расписку. Они хохотали, кивали на меня и вновь склонялись над бумагой. Написали. Мол, я, такой-то, отдам часы такому-то, если он оплатит ночь в моем отеле. Дали мне бумажку, я снял с руки часы и пошел наверх.
Наверху была ночлежка.
На полу лежали тонкие матрацы – ни белья, ни одеял и подушек, ни стульев или тумбочек, ни ламп. Вообще никакого света – только через окно светит уличный фонарь. И очень грязно. И накурено. Запах был сладкий, приторный: курили анашу.
На полу, то есть на матрацах сидели четыре темных человека и курили. Разглядеть черного человека в полумраке можно, но он кажется довольно страшным. Эти люди и при свете, думаю, пугали, а в темной комнате с ними было совсем неуютно. Я сел на матрац в углу, ботинки решил не снимать.
– Ты где живешь?
Я чуть было не ответил: в Хемпстеде. Но вовремя одумался. Это был бы неверный ответ. Я мгновенно сообразил, что если эти ребята и слышали про Хемпстед, они к этому району относятся с предубеждением.
– Я из России, – сказал я. И поразился, до чего мой ответ прозвучал скорбно. Так и должен говорить беженец в ночлежке – усталым тихим голосом сообщить, что он бежал из России.
– Man! Ты из Раша?
– Да.
– У вас дерьмово, да? ГБ пришло к власти? – все-таки бесплатные газеты в пабах делают свое дело.
– Да, – сказал я, – ГБ у власти.
– Раньше, – сказал крупный парень, – у власти был Сталин. Сталинское наследие, мужики. Социализм – это страшно. Произвол и террор. Диктатура.
– Раша – сраная страна, – согласился его сосед.
Мне стало обидно за свою страну, за ГБ, за социализм. В конце концов, подумал я, здесь не Версаль, чтобы вот так сходу хаять социалистическое прошлое моей Родины. Отчего-то я считал, что бедные люди всех стран мира должны сочувствовать социализму – а у постояльцев «Funky Monky» сочувствия не было никакого. Они бранили тоталитаризм с убежденностью ньюйоркских housewifes. Допустим, домохозяйкам есть что терять – а этим-то убогим, здесь, в Брикстоне, в вонючей дыре, сидя на паршивом матраце, – им-то что? Я решил заступиться за свою несчастную Родину. Были у нас и достижения. Про Пастернака я говорить не стал, но сказал про жилищный сектор.
– У нас было бесплатное жилье, – сказал я, – квартиры всем давали даром.
– Ты врешь, man.
– Нет, я не вру.
– Мне, черному человеку, гею, дали бы жилье? Хаха! Не гони.
– Дали бы, конечно.
– Не гони, man. This is bullshit. Я знаю, что коммунисты сажали геев в тюрьму! У вас был концлагерь, man! Социализм это fucking bullshit!
– У нас была бесплатная медицина, – сказал я зачем-то.
– Мне, черному ублюдку (он так и сказал: «black bastard»), дали бы бесплатное лекарство? Ты гонишь. Я курю skunk и меня не пустят в вашу социалистическую сраную больницу. У вас концлагерь, понял!
– И образование у нас было бесплатное, – сказал я темным людям в ночлежке.
– Fucking university. У меня нет образования, я свободный человек. Что ты на меня так смотришь? Я свободный человек, понял?
Я на него никак не смотрел, я его едва видел.
– Тебе не нравится, что я гей? Да? Не нравится? Сука коммунистическая! Не трогай меня, понял? Не трогай меня!
Я до него, разумеется, не дотронулся и пальцем. Более того, я боялся до него дотронуться.
– Не трогай меня! Иначе пожалеешь! Ты пожалеешь! Ты будешь о-о-о-очень жалеть, сука! U gonna be verrrry sorrrry!
– Я тебя не трогаю.
– Тебе не нравится что я гей? Да? Не нравится? Не нравится, сука? А это мой, сука, свободный выбор! Здесь демократия, понял?
Я вдруг понял, почему при демократическом строе вопрос о гомосексуализме стал актуален. Дело в том, что любовь народа к демократии – своего рода однополая любовь. Монархия провоцирует гетеросексуальные инстинкты, а демократия – гомосексуальные. Но тогда я эту мысль додумать не успел.
– Ты коммунист? Говори мне правду, сука!
– Нет, – сказал я, – не коммунист.
– Но ты не любишь демократию, man! Я чувствую, ты не любишь демократию!
Так мы говорили еще полчаса, и я обрадовался, когда они решили, что пора спать. Я лег на матрац, положив под голову свернутую рубашку (на мне была еще футболка, а ложиться лицом на матрац не хотелось).