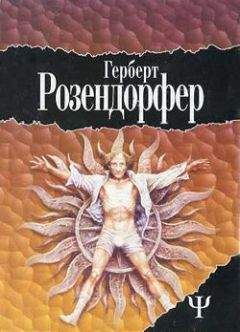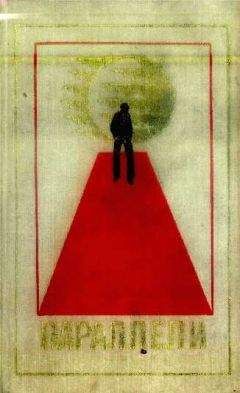Стихи, как и картины, живы, когда их читают, или смотрят, или, если повезёт, застрянут в чьей-нибудь благодарной памяти…
Книга вышла и Карл, после первой радости, ужаснулся: тридцать лет жизни вместилось на трёхстах страницах. Твёрдая корочка снизу и сверху. И, что совсем непостижимо, оказалось, что издано всё, до последней строчки. Он почувствовал себя голым новорождённым стариком.
Стихов уже не будет, это понятно, но оказалось, что проза после поэзии — ничего страшного, никакая это не капитуляция, и не предательство, жить можно. Только, оставаясь поэтом, он и к прозе относился как к поэзии: профессионального рукотворства не признавал, ждал, когда натечёт.
Татьяна по-прежнему работает в школе, рассказывает зачем-то детям о мировой художественной культуре, останавливает коня на скаку, никак не остановится.
Каждую ночь перед сном Карл отрывает листок календаря, и, чтоб оправдаться перед улетевшим днем, подробно рассматривает: фазы Луны, восход, заход, долгота дня…
Вот эта «долгота дня» звучит и вовсе издевательски. А что ты хочешь — натечёт или не натечёт — неизвестно. Рыть надо. Был же колодец. Но каждый новый день необратимая повседневность застила глаза, заставляла таращиться на ивовый витраж.
Заехал Сашка, сияющий: выкопал в интернете сведения о художнике Коке — жив, в городе Шымкенте, по такому-то адресу. Сашка видел Коку однажды, лет двадцать назад в дни смуты и развала, тот был проездом в Москве, уже тогда утомлённый до неузнаваемости.
— Полетим, — сказал Сашка.
Карл молчал.
— А что! Раздадим его долги… поддержим. Или деньги — не так важно?
Ещё как важно. Карл вспомнил годы тяжёлого безденежья, когда добрые слова раздражали, а деньги радовали. Но Кока… «Ты зачем приехал, — скажет он. — Спасать меня? Что, деньги лишние? А где ты был эти двадцать лет? А до этого — ещё двадцать? Что ты хочешь вернуть? Самоуважение? Валяй, только без меня. А у меня всё в порядке. Вот мой стол. Мой бокал. Даже рисунки есть — шариковой ручкой. Посмотри, если интересно. И вали отсюда».
«Это ещё в лучшем случае, — вздохнул Карл. — Может не узнать, не вспомнить, не открыть дверь…»
Брошенные лодки… Вот и Плющик. Разве плохо было, когда заезжал к нему год назад? Пили, вспоминали, радовались. Договорились вместе ехать в Одессу. Куда же ты пропал, Борисыч… А ближайшее окружение? Всех разогнал, никому не звонишь, даже назвал себя «недозвоном». Отхохмился. Просело твоё октановое число, задок-передок. Интересно, роет ли Паша колодец? Нет, неинтересно. Роет, наверное.
Как бы так исхитриться и написать роман без слов, картину без изображения. Неужели, пока существуют люди, придётся искать общий язык… С покойниками общаться — ещё ничего, нет необходимости смотреть в глаза.
Карл устал от этого кошмарного монолога и включил телевизор. «Я этот ящик выкину когда-нибудь, — грозила Татьяна. — Когда ни включи — бесы прыгают. Неужели не страшно?»
Бояться не надо. Страхи изнурительны — беды приходят и уходят, а душа, изъеденная страхами до дыр, не восстановится. Чего бояться. Можно бояться американского президента (для более продвинутых сойдёт и польский), украинского парламента, экономического кризиса, ингушской диаспоры в Кологриве, строительства мусоросжигательного завода. А детей лучше всего пугать глобальным потеплением. Не надо обслуживать душой страхи — даже если Земля исчезнет — Небеса-то останутся.
— Танечка, если б у меня был камин, я не смотрел бы в телевизор.
Он листал каналы то с отвращением, то с любопытством, иногда останавливался полюбоваться хорошим кадром, особенно, если в нём была вода, — море ли, лужа, не важно.
Интеллектуалы, конечно, бесили. Собирались они просто так, решали глобальные проблемы просто так, кабинетной терминологией — щеголяли. Особенно Карла сердило, когда что-нибудь живое — образ, радость, поэзию, они называли текстами и смыслами. Сидит в ящике поэтесса с плечами регбистки и говорит о смыслах. Ужас.
И всё равно — телевизор не мешал думать и печалиться. «Ну, не поехал я с Плющом в Одессу, — размышлял Карл под сводку погоды, — но написать я о нём могу. Это даже лучше».
На следующее утро, наскоро выпив кофе, он с опаской подошёл к письменному столу, долго искал ручку… Таня сегодня придёт поздно, включи настольную лампу и не смотри на часы. Главное, не думать о жанре, не важно, что это будет, давай, рой.
Карл зажмурился и начал:
«Тёплая стоячая вода временами покрывается плёнкой сала. Случаются заморы — не хватает кислорода. Рыба либо дохнет, либо «делает ноги».
Косте Плющу кислорода хватало. Он сам его вырабатывал. Просто ему не нашлось места. Одесситы умеют угощать, но не любят делиться.
В Одессе слишком длинная скамейка запасных. Прибегаю к этому футбольному термину, потому что так, к сожалению, понятнее.
Плющу помахали ручкой, сотворили его образ и повесили на стенку. Образ каши не просит. Костю Плюща сделали легендой прижизненно. Легенда разрасталась, поджимала судьбу, вытесняла её, оставляя судьбе самое неблагодарное — физическое выживание…
Он слишком рано стал профессионалом, а профессионализм — это планка, ниже которой нельзя, а выше — как получится. И если обычно художник выжимает из себя ученичество, Плющ последовательно выжимает из себя профессионала. Потому что много званых, да мало избранных. Потому что профессионал — человек бывалый, а Плющ — небывалый человек.
Уход его из южнорусской школы можно объяснить по-разному. Я не собираюсь этого делать — на то есть искусствоведы. Хотя, если человек стал легендой — так ли уж важно, что он делает и как… Знаю только, как обидно бывает художнику, когда его хвалят за пустяки и не замечают главного. Знаю только, что многочисленные обнажёнки и рыбки — тема неприкаянности и сиротства…»
«Ерунда какая-то, — остановился Карл. — Что-то среднее между предисловием и некрологом. Ладно, потом разберёмся. Поехали дальше».
Зазвонил телефон. Ну что ж, вовремя. Надо прерваться и покурить.
Карл вышел в кухню, поднял трубку. Вкрадчивый голос Будякова заворковал:
— Как жив? Что делаешь?
— Да вот, представляешь… Впервые за два… нет, три года сел за стол, — Карл вдруг осёкся и насторожился:
— А что?
— А то, — торжественно, как приговор, объявил Будяков, — пора водку пить!
— С чего это?
— А с того, что я сегодня рано освободился, и через час буду у тебя.
— Будяков, помилуй, — взмолился Карл и посмотрел на часы. — Половина двенадцатого! Можешь хотя бы после трёх?.. Поезжай домой, пообедай, отдохни…
— Нет, — отрезал Будяков, — я из дома уже не выберусь, на ночь глядя. Я ведь ложусь в девять.
«Да хоть в пять», — досадовал Карл, но отказать не смог — одинокий человек, под семьдесят, рвётся к тебе, значит, надо. Другой бы порадовался…
— Что ж ты девушкам спать не даёшь, падла, — вздохнул Карл. — Давай, жду. Только говна не бери.
— Га-га-га, — загоготало в трубке. — Иду.
Лет тридцать назад Будяков был здоровым дядькой, волосатым и спортивным, жизнерадостным до недоумения, гоготал, читал умные книги и ухаживал за барышнями, осторожно, но наверняка. Он не любил ошибаться, ошибка могла стоить ему личной свободы.
Жил с мамой, работал инженером, а по выходным регулярно писал стихи. Борис Слуцкий назвал его поэтом выходного дня. Стихи по выходным получались всякие, — иногда радовали, иногда — слушать было неловко, читал он их честно и охотно, приговора не боялся. Суровые друзья его щадили — он охотно давал взаймы.
К пятидесяти годам Будяков внезапно бросил свой НИИ и ушёл в трубочисты. Ему даже не поверили поначалу — что за Андерсен, — но оказалось — правда, в старых домах отопление какое-то специальное…
Так или иначе, но хорошие строчки стали появляться чаще, а сам Будяков стал симпатичнее. А теперь и вовсе прелесть — лысый, с тяжёлой бородой, с палкой в руке, согбенный и весёлый, он походил на крупного гнома или самодельного Санта-Клауса.
Карл с сожалением посмотрел на исписанную страницу — зацепиться не получилось, ну ничего, лиха беда начало, снимем стресс, а завтра… Он представил себе завтрашнее похмелье, передёрнул плечами и пошёл резать сало.
Будяков принёс серенький тонкий журнал — издание еврейского культурного центра.
— Смотри, целую подборку напечатали. Вот.
Карл полистал страницы.
— А кто такой Шумихер?
— Это я, я Шумихер, — радостно тыкал в себя пальцем Будяков. — Я — Шумихер по маме!
— Жидовская ты морда, — умилился Карл. — И где же твоя водка?
Будяков суетливо достал из сумки бутылку «Столичной», с потёртой советской этикеткой.
— Что, из подарочного фонда? Образца тысяча девятьсот восемьдесят шестого года?
— Нет, ей Богу, — забожился Шумихер, — только что купил!