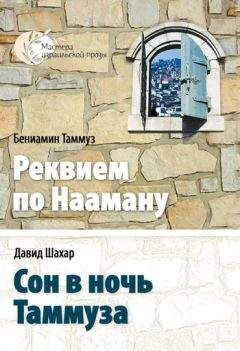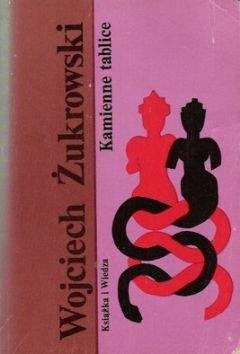Ознакомительная версия.
Полузакрытые глаза Габриэля с этакой блуждающей улыбкой, выражающей полнейшее удовлетворение, могли произвести ошибочное впечатление о полноте ощущений, как это проистекает из теории нирваны, душевной безмятежности и отключения от мира сего на грани абсолютного ничто. По сути же, в этом таилась деятельность души и духа, не менее активная, чем физическая, которая совсем недавно совершалась на груде этих мешков. Полузакрытые глаза были обращены к тем мгновениям, вершившимся здесь, к избранным фрагментам происходившего, из которых вырывались вверх струи пульсирующими взблесками трепещущей плоти, возвращающиеся внезапным трепетом схваченной мысли. И тогда Габриэль срывался с места, лихорадочно записывая два-три предложения или вообще отдельные слова в большой конторской книге в то время, как Белла, еще совсем расслабленная, нежилась в дремоте и водовороте разбуженных эмоций. Заметив пишущего Габриэля, ступая неслышно босыми ногами, она подкралась к нему и заглянула через плечо. Габриэль тут же захлопнул блокнот. Он пытался ей объяснить, что написанное вовсе не направлено против нее, что она просто не поймет, о чем эти закорючки и клочья предложений. А если и удастся ей сложить нечто из нескольких слов, она не уловит их смысла или поймет их превратно. Придет время, когда сочинение будет завершено или даже какая-то его часть, и тогда она будет первой, кто это прочтет.
– А до тех пор? – спросила она голосом, придушенным этой несправедливостью. – Я буду ждать и ждать, как тот козленок из арабской сказки, которому говорят: погоди, ой, погоди, козленок, пока трава вырастет! А пока что? Пока козленок умрет от голода?
– Упаси Боже, дорогая, я никогда не дам тебе умереть с голоду!
– сказал Габриэль и поцеловал алый сосок, торчащий у его рта. Некий оттенок преувеличения, патетики всегда слышался в ее речи, но Габриэль умел различать эти оттенки, и на этот раз он ощутил, что, не желая этого, оскорбил ее до глубины души, до слез, которые душили ее, когда она говорила: «…ты даже не знаешь, любимый мой…. Ведь нет у меня в мире никого, дороже тебя. Душа моя изошла любовью к душе твоей. Я жажду вторгнуться в твою душу, как ты жаждешь вторгнуться в мою плоть. Когда ты захлопываешь дверь, не даешь даже заглянуть на миг в мысли, которые возникают в эти мгновения самого-самого моего счастья, ты уязвляешь мою душу, ты отсекаешь меня тем самым обоюдоострым мечом ангелов от рая, выбрасываешь в ад, оставляешь истекать кровью». Слезы, выступившие у нее на ресницах, пробудили в нем взрыв чувств. Он уже решил дать ей блокнот, пусть смотрит. Ведь все равно ничего не поймет. Нет, он решил ей объяснить, что речь идет о незавершенном труде Баруха Спинозы «Об исправлении человеческого понимания». И тут же заметил сомнение в ее взгляде и надувшихся губках. Она уверена, что он хочет сбить ее с толку философией, чтобы скрыть истинное в его душе, фиксируемое в блокноте.
– На, гляди сама, чтобы убедиться.
Лицо ее осветилось благодарной улыбкой. Она прижала блокнот к двум небольшим белым холмикам груди и, закрыв глаза, безмолвно шевелила губами. Затем вдруг вернула ему блокнот:
– Сам открой его и покажи мне.
– Почему не ты?
– Это будет выглядеть, как будто я взяла без разрешения.
Габриэль раскрыл блокнот и указал на последний листок с записями.
– У тебя удивительно ясный почерк – красивый и четкий, как упражнение по чистописанию! – воскликнула она радостно. – Гораздо более ясный, чем мой, и намного красивей. И ты называешь это закорючками? – Габриэль понял, что просто взгляд на его записи удовлетворил ее любопытство, что содержание ее интересует менее, чем радость от его красивого почерка. – «У меня же это наоборот», – прочла она громко единственную фразу, написанную на листке блокнота, и голос ее звучал, как декламация ученицы, вызванной к классной доске. От этой фразы, обведенной кружком, тянулась стрелка к предыдущей странице, к записи на иностранном, пересекла книзу листок и опять обвела кружком несколько последних строк. – У тебя это написано слева направо? – спросила она, поняв, что это не на английском, а на французском, которого она не знала. Габриэль кивнул головой в знак согласия, и она продолжала: – Но и это твой почерк. И совсем-совсем другой, чем на иврите? Или у тебя сегодня, в момент, когда ты писал, не то же самое, что ты писал неделю назад по-французски? Или на иврите это всегда по-иному? Габриэль – некто другой, когда пишет по-французски? И тот, другой, не обязательно должен быть другим Габриэлем в иное время, на ином языке и с иным настроением. Вероятнее всего, у всех этих Габриэлей, толкущихся в тебе в любое время, в любом месте и на любом языке, нечто абсолютно противоположное, чем у того, кто не Габриэль вообще, хотя у него почерк Габриэля. Выходит, что Габриэль переписал своим почерком текст какого-то француза, но ты сказал мне, что это текст Спинозы, а он не француз. Почему ты не записал его на английском или иврите, чтобы и я могла прочесть и понять? Это вопрос номер один. Вопрос номер два: что написано здесь по-французски, что, оказывается, у тебя «это наоборот»? И вопрос номер три: не считаешь ли ты, что мне полагается премия – все же сумела ухватить нечто в связи с твоим «нечто»?
Она вся трепетала от радости, и победные искорки сверкали в ее глазах с того момента, как она почувствовала, что Габриэль ей доверяет и не пытается скрыть от нее что-либо, касающееся ее. Он объяснил ей, что переписал фрагменты из произведения Спинозы по-французски, потому что в библиотеке Бней-Брита не нашел его на другом языке, и что фрагмент этот касается наслаждения чувствами. А в строках, обведенных кружком, сказано, что после наслаждений на человека наваливается тяжкая печаль, которая, хотя и не задерживает духовную работу, притупляет ее и путает.
– Значит, у тебя это наоборот, чем у Спинозы? – закричала она с явным вдохновением в голосе. – У него после наслаждения приходит печаль, депрессия, а у тебя, наоборот, великая радость? – Габриэль подтвердил это снова кивком головы, и она продолжала низким голосом со скрытыми нотками сомнения: – У тебя после этого всегда приходит великая радость? – Получив подтверждение, она опустила глаза и прошептала: – После каждого раза… и с каждой женщиной?
И Габриэль, инстинктивно ожидавший этого, энергично отмел:
– Нет, куколка, только с тобой, только с тобой, дорогая. Да ведь ты знаешь, что нет у меня никого, кроме тебя. Ты единственная во всем мире!
И вновь засверкали ее глаза, и она захлопала в ладони от радостного возбуждения, как маленькая девочка. Габриэль, ощущавший все же некий слабый укол угрызения совести в сердце от лживости слов, вырвавшихся у него под ханжеским выражением собственного лица, был завлечен ее радостью. Внезапно и вправду почувствовал, что наполняется счастьем при виде ее такой искренней радости. Мелькнувшая мысль о том, что вся правда мира не могла принести Белле то счастье, которое принесла ей эта ложь, заставила усиленно биться его сердце, и приступы трепета, один за другим, как удары электрического тока, или как выбросы семени в высшей точке наслаждения, сотрясли его. И он поспешил схватить упавший карандаш и записать еще фразу в блокнот, некий намек на идею, открывшуюся ему новым началом, выходом к новым горизонтам. Существование их было скрыто от него до этого мгновения, но вот они раскрылись, новые, высшие миры, сотворенные из великой лжи, продолжающие существовать и питаться от сосцов этой лжи, самим своим существованием превращаясь в великую правду. Он записал: «Несомненно, прав был великий поэт, записавший или, вернее, нашептавший своему дневнику, что можно создать великие империи на преступлениях, как и высшие, аристократические религии – на обмане». Хотя новые горизонты, к которым обращен был взгляд Габриэля, простирались намного шире и дальше империй и религий.
На этот раз Белла не торопилась заглядывать ему через плечо. Подперла голову рукой, полная покоя и удовлетворения.
– Знаешь, мой дорогой, – почти неслышный шепот слетал с ее губ, – никогда я себе представить не могла, что в таком старом и темном подвале я удостоюсь такого счастья. Как-то ты цитировал мне, кажется, Шекспира, что «даже в ореховой скорлупе я мог в душе своей быть королем вселенной, если бы только не плохие сновидения». Тогда я не очень поняла, но вот сейчас мне стало ясно. Я понимаю, что нахожусь в еще лучшем, чем он, положении: нет у меня плохих сновидений, одни хорошие, я и вправду королева в ореховой скорлупе, в этом заплесневевшем подвале. Скажи мне, что означает «муза»? Дружки Ориты, все эти студенты в «Бецалеле», все время твердят – «муза, музы»!?…
Вопрос этот внезапно повернул мысли Габриэля в иное, им не ожидаемое русло. Словно бы некое дуновение ветра сотрясло тело Габриэля. Похоже, ангел пролетел в этот безмолвный миг. В растерянности он забормотал что-то о девяти музах, дочерях Зевса и Мнемозины, известных ему из эллинской мифологии, но как ни напрягал память, не мог вспомнить по имени ни одну из них.
Ознакомительная версия.