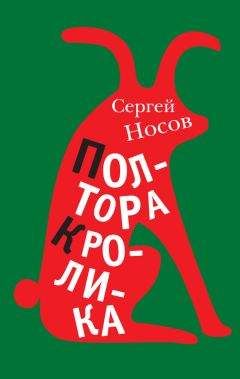– Стой, «пошел»! от ответственности никто не уйдет, еще как отвечать придется, не думай.
Остановил. Тесак на стол положил. Смотрит на меня пристально, взглядом сверлит.
– Ты Брежнева помнишь?
– Ну, помню.
– Ведь не помнишь, забыл Брежнева!
– Почему это я должен забыть Брежнева?
– Ну и кто такой Брежнев был, если помнишь?
– В смысле что значит кто?
– А вот кем он был, ведь не помнишь?
– Генеральным секретарем. Достаточно?
– А ведь ты не знаешь, как при Брежневе было?
– Почему ж я не знаю, как при Брежневе было?
– Тебя спросят дети, когда подрастут, они пограмотней нас будут, будут интересоваться, как при Брежневе было… чем при Брежневе, спросят, плохо жилось? Чем плохо?
– При Брежневе, да?
– Да – при Брежневе! Что им ответишь?
– К вам пошлю!
– Вот! Ничего не ответишь! Потому что при Брежневе и была настоящая жизнь. А ты… ты: сталинист!..
Кто сталинист, я не понял.
– Кто – сталинист?
– Ты. Ты говоришь: сталинист! Про меня.
– Я не говорил, что вы сталинист.
– Какой же я сталинист? Разве я сталинист? – не на шутку заводится Пал Матвеич. – Да где же я сталинист? Сталин был Сталин. Я не спорю. Но какой из меня сталинист? Мне за Брежнева обидно. Не такой он был все-таки Брежнев, если при нем все было! А разве не было? Свобод захотелось? А чем при Брежневе не жилось? Вот дети спросят: чем не жилось? Еще не известно, что через пятнадцать лет будет…
– Это верно, – с этим я соглашаюсь.
– При Брежневе-то и была свобода. Кто хотел, тот и пользовался. Что, говорили меньше? Столько же и говорили. И про Брежнева, и про остальное. То же самое говорили. Только в газетах не писали. А говорить никому не запрещалось. Так, Маня?
Но Марины Евгеньевны рядом нет. Пал Матвеич продолжает:
– И свобода, я тебе скажу, была настоящая. Да такой свободы, как у нас при Брежневе, нигде в мире не было. Никогда. Что хочешь, то и делай. Не хочешь делать – не делай. Хорошо делаешь – молодец. Плохо делаешь – значит плохо спросили, пусть хорошо с тебя спросят… чтоб хорошо делал. А не нравится – не делай, тебе всегда замену найдут, и без дела сам не останешься, дел много. Не то что… Гвозди надо? – бери! Доски надо? – бери! Нельзя? Нельзя – не бери. Сам думай. Знай меру. Без меры куда денешься? Без меры никак. Анархия нам не нужна. А теперь куда ни посмотри, что видишь? Нет, при Брежневе порядок был. Какой-никакой, но порядок. И свобода была, и порядок был. Гд е порядок сейчас? Нет порядка. При Сталине, я согласен, свободы не было, зато хоть порядок был. А при Брежневе все было. И порядок, и свобода. А вы: «Несвобода!» Нет уж. Я это хорошо знаю, контролером сам столько лет проработал, на дороге на Октябрьской, знаю. Оштрафуй, попробуй, кого – бумагу на работу пошлешь, начальник, думаешь, выговор влепит, премии лишит? Да он еще эту бумажку и припрячет куда подальше, а то и не дойдет до него, другие припрячут. И правильно. Главное, припугнуть. Пусть помнит, что машина работает. А машина у нас не бульдозер была. Добрая машина. Добротная. О человеке думала.
– Ну это вы загнули.
– Сидит, зараза.
Последнее относилось к вороне, усевшейся на ветку осины.
– Пусть поживет, – вступился я за ворону. – Вы зачем им лапки отрубаете?
Пал Матвеич «о!» сказал.
– Я же их для души, для разрядки, – он обернулся, не слышит ли Марина Евгеньевна; нет, не слышит. – А разве даст она для души? Она только для дела. Вон, суровая…
– Это кого – (я не разобрал) – кого для души?
– Ворон для души хлопаю. Для разрядки. Люблю на ворон охотиться. А лапки… – тут Пал Матвеич, обогнув столик садовый, ко мне поближе подошел и сообщил доверительно: – Лапки, они для прикрытия. – Подмигнул.
Знал, что буду обдумывать, – выдержал паузу.
– А иначе не даст. Не даст охотиться. Я же ей как объясняю? Говорю, что за лапки мне фанеру дают, усекаешь? За то, что ворон истребляю. От них общенациональному хозяйству большой убыток. От ворон! А у меня отчетность как бы. Лапками, усёк?
– Да? – поражаюсь услышанному.
– Нет. Как раз нет. Мне главный агроном давно фанеры выдал, нам фанера очень нужна, только не за лапки, а за другое совсем…
Я – наивно:
– За что?
Пал Матвеич покачал головой, укоряя.
– Сам подумай, за что же еще? – И по шее себя характерным щелчком… – Щас угощу.
– Нет, – сообразил я, – в другой раз. Благодарствую.
– У… крепкость какая… В магазине такого не купишь… Понравится…
– Мне надо, пойду.
– На дорожку-то?… сто граммулек?… Идем в сарай.
– Нет, нет, в другой раз.
– Ну как знаешь, – огорчился Пал Матвеич.
Проводил меня до калитки.
– Спасибо за яблоки, – я сказал.
– Ешьте, ешьте… Мы с тобой как мужчина с мужчиной. Смотри, не закладывай меня, хорошо?
– О чем разговор, Пал Матвеич! Гоните себе на здоровье.
– Да я не про то. Про самогон все знают. Я про лапки. Чтоб жена не узнала, что я их – для души… А то ведь съест, съест…
– Только по ночам не стреляйте.
– Закон, – сказал Пал Матвеич.
На том и расстались.
Старый рассказ в «Бельведер»
В кафе вошли с промежутком в несколько секунд: первым – боявшийся опоздать В. Ю. Демехин, – встав посреди зала, он обозревал пытливым взглядом немногочисленных посетителей, – и следом за ним – молодые люди, вдвоем: он и она.
– Здравствуйте, Валентин Юрьевич.
Идентифицированный со спины и явно по признаку возраста (других «старичков» в кафе больше не было), он обернулся.
– Максим. Это я вам звонил.
Рюкзачок за спиной. Крохотная, похожая на запятую, бородка – в позапрошлом веке такую могли бы назвать иронической.
– Марина.
Рыжая челка, рыжие ресницы.
– Очень приятно, – не соврал Валентин Юрьевич.
Он опасался увидеть двух чопорных клерков, два черных костюма, два галстука в диагональную полоску (о таких предприятиях, как деловая встреча, Валентин Юрьевич судил лишь по иностранным фильмам), сам он, человек безусловно творческий, не без усилий над собой пренебрег, сюда собираясь, древним своим коричневым пиджаком, решив, что брюки к пиджаку все равно от другого костюма, – пришел в свитере. Молодые люди были в джинсах, причем она – в драных; все, к облегчению Валентина Юрьевича, предвещало непринужденность беседы. Разнополость переговорщиков тоже приятно порадовала Демехина – он ожидал увидеть особей своего пола. Наконец, кафе – не ресторан; скромное, без официантов. Демехин любил простоту. Простоту и естественность.
Во всяком случае, ему казалось, что он это любит.
Общаться с молодежью он тоже любил.
Во всяком случае, ему так казалось.
– Может быть, у стены?
– Очень хорошо, – одобрил Валентин Юрьевич выбор Максима: именно за столиком у стены, по его разумению, лучшее место для деловых разговоров.
– Кофе? – спросил Максим, когда подошли к столику.
– С пирожным, – сказала Марина и обратилась к Демехину: – Проявите солидарность?
– Нет, нет, – Валентин Юрьевич решительно отказался от сладкого. – Некрепкий, пожалуй. Американо.
Максим на правах пригласившей стороны по-хозяйски удалился к стойке купить три кофе и одно пирожное, а Валентин Юрьевич и Марина, разместившись за столиком, предались незатейливому общению.
– Трудно найти кафе, чтобы не было музыки, – сказал Валентин Юрьевич. – Хочется поработать, а тебе бум-бум, бум-бум… И так у нас повсеместно… Знаете, Марина, я вот в Германии, когда пью кофе, всегда слышу, о чем говорит собеседник.
– Я вас тоже слышу, – сказала Марина. – Здесь еще ничего.
– В целом, да, – согласился Валентин Юрьевич. – Здесь уютно.
Он ожидал вопроса о Германии, часто ли там бывает, – сказал бы тогда, что в Гамбурге живет внук. Но Марина спросила другое:
– Так вы пишете в кафе, значит, прямо так вот за столиком?
– Когда-то практиковал, – уклончиво ответил Валентин Юрьевич. – Я везде пишу. Вездепишущий.
Марина показательно улыбнулась, давая понять, что намеренно пропускает реплику.
Валентин Юрьевич поступил так же.
Марина потерла лоб.
Тогда Валентин Юрьевич задал вопрос по существу:
– Антология?
– Что? – спросила Марина.
– Ну это.
– Нет. Не совсем, – она нашла глазами Максима.
Максим приближался. В одной руке он держал блюдце с чашкой американо для Валентина Юрьевича, в другой – блюдце с чашечкой эспрессо для Марины. Валентин Юрьевич немедленно встал и направился к стойке – помочь. Он, однако, не рискнул взять еще и пирожное, сосредоточившись на одном – на блюдце с чашечкой эспрессо для Максима, – держа перед собой обеими руками, чтобы не расплескать, ступал медленно, осторожно. За это время Максим успел вернуться к стойке и принести блюдце с пирожным. Молодость проворна. Никто не спорит.
Теперь сидели втроем.
– Мне хвалили ваш «Незримый луч», – сказал Максим, надрывая пакетик с сахаром, – сам не читал, но прочту, если достану. Это, кажется, ваше последнее?