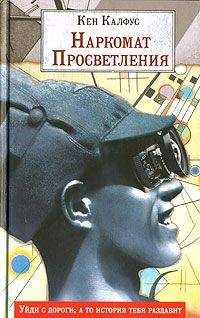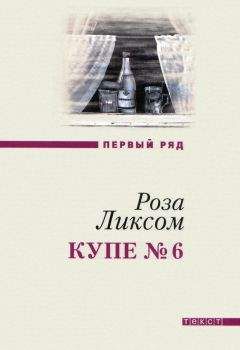Грибшин не следил за временем, и постепенно крики перестали доходить до его сознания. Наконец он вспомнил про лошадь. Не сказав ни слова Семену, он взял поводья и повел лошадь по тропинке. Сосед, беспокойно ожидавший у калитки, не справился о Семеновой дочке.
Возвращаясь плохо знакомой дорогой, Грибшин едва узнал деревню с этой стороны. Штук шесть домов рассыпались на обочине дороги, словно игральные кости на столе. К Семену вышли Марина и повитуха. Семен перестал строгать, а две женщины сидели по бокам, словно взяв его в скобки, и глядели на рассыпанные стружки. Стружки соответствовали выструганной палочке, как негатив — позитиву. Женщины посмотрели на Грибшина.
— Профессор Воробьев? Где профессор Воробьев? — спросил он.
— У девки, — буркнул Семен.
Он сделал на палочке зарубку и повел очередной разрез.
— Она жива? — спросил Грибшин, выдыхая с облегчением и позволяя себе что-то вроде улыбки, на долю секунды перекосившей нижнюю половину лица. Ему никогда раньше не приходилось спасать кому-то жизнь. Он подумал об отце, который был бы им доволен, которого порадовал и развеселил бы его рассказ о ночных подвигах в седле.
— Да только мальчик умер.
— Какой мальчик?
— Ее мальчик. Мой внук.
— Мои соболезнования, — сказал Грибшин.
Никто не ответил, и никто не помешал ему войти в избу. Он толкнул дверь. Комната не изменилась с тех пор, как он впервые вошел в этот дом, только сейчас она была напоена солнечным светом, будто настало утро, и с виду была гораздо чище, словно ее только что выскоблили дочиста. Следов крови не осталось. Воробьев, стоявший спиной к двери, посмотрел на него безо всякого выражения. Профессор был все в том же костюме, и даже волосы у него не растрепались.
Грибшин учуял тот же странный запах, с которым впервые столкнулся в купе, на пути из Тулы. Это был запах Воробьева, но теперь он стал более отчетливым и едким, почти неприятным. Грибшин едва не чихнул. Возможно, в этом ореоле запаха крутились молекулы экстракта какой-нибудь поганки, или головни, или споры какого-нибудь редкого тропического растения, частицы осколка кометы или блуждающей туманности. Грибшин задумался: не так ли пахнет будущее?
Девочка лежала навзничь на тюфяке и спала. Она покоилась царственно, и можно было не заметить, что она идиотка, но в остальном она выглядела точно так же, как и до своего тяжкого испытания. На лицо не легли морщины. Простыни под ней не были окровавлены, и рубашка была чистая. Даже пятно исчезло.
— Я впервые принимал роды, — объявил Воробьев, но говорил он не с Грибшиным. Казалось, он обращался к девочке, которая его не слышала. — И мне пришлось пользоваться инструментами, не идеально приспособленными для этой цели. У меня не было эфира. Тем не менее я уверен, что более современных врачебных методов в этой деревне не видывали.
— Фирма «Братья Патэ» заплатит за лечение, — поспешно сказал Грибшин.
Воробьев опять повернулся к Грибшину, и тот засомневался, узнал ли в нем Воробьев хотя бы вчерашнего ночного спутника.
— «Братья Патэ»? Жаль, что в последние несколько часов вы не присутствовали тут с камерой: вышла бы прекрасная демонстрация практического медицинского опыта. Еще одна утерянная возможность. Синематографии так и не удалось достигнуть целей, к которым она якобы стремится, в особенности — слить воедино образование и науку. Синема стало всего лишь еще одной потехой для посетителей пивных.
Молодой человек покраснел:
— Фирма «Братья Патэ» никогда не забывает о своем общественном долге. Мы снимаем фильмы на серьезные темы и гордимся этим. Поэтому мы явились в Астапово, поэтому мы показываем зрителям важные новости со всего мира. Синематография — по-прежнему самое многообещающее средство общественного просвещения.
Воробьев отбросил сарказм.
— В таком случае у меня есть к вам предложение — я дам вам еще один шанс заснять достижения современной медицины. Вы запечатлеете прогресс медицинской науки, ее самые передовые достижения.
Грибшин открыто сомневался.
Воробьев объявил:
— Граф умрет завтра, или через неделю. Момент его смерти даст уникальную возможность проведения медицинской процедуры, которая обессмертит его славу. Я предлагаю вам запечатлеть посредством синематографии эту процедуру — плод моих долголетних исследований и экспериментов.
— Вы хотите проделать ее над графом?
— К несчастью, российские законы предоставляют наследникам полную власть над несчастным усопшим, вне зависимости от их компетентности. Поскольку граф явно неспособен распорядиться на случай своей смерти, решение будут принимать члены его семьи, или, что более вероятно, Чертков. Г-н Чертков уважает синематограф. Если не ошибаюсь, ваша фирма может оказать некоторое влияние на г-на Черткова.
Грибшин удержался от улыбки. Может, Воробьев и безумец, но он — интересный безумец. И запах — да, сомнений нет, это запах будущего. В эту секунду Грибшин понял, что всю жизнь будет слушаться своего предчувствия — ощущения, что он падает навстречу будущему, — всякий раз, как оно возникнет. Он смотрел на спящую девушку, на ее безмятежное лицо.
— Вы переоцениваете наше влияние на г-на Черткова. Он даже не пустил нас с камерой в дом.
— Г-н Чертков захочет с вами разговаривать. Он доверяет вашей фирме. Вы можете устроить нам встречу и представить меня.
Грибшин задумался, что из этого можно рассказать Мейеру, чье терпение было велико, но не безгранично. Мейер сочтет безумцем его самого.
— Возможно. Но я не могу обещать результатов. У г-на Черткова, э-э-э… весьма консервативные взгляды.
— У нас с г-ном Чертковым общая цель: донести величайшую истину до возможно большего числа людей. После надлежащей демонстрации моих исследований он поймет, что я его союзник, можно сказать — коллега.
Спозаранку в дверь забарабанили безо всякого пароля. Все лежали, затаившись, и тут очередной удар чуть не вышиб дверь. Послышался голос:
— Да открывайте же, мать вашу, это я, Сталин!
Вдовец, приютивший Ивановых, окончательно растерялся от неутомимой наглости этих чужаков, от их дискуссий, ругани, от набегов таинственных незнакомцев на его жилище. Человек с изрытым оспой лицом, назвавшийся Сталиным, прошествовал в дом, словно на сцену, поворачиваясь из стороны в сторону, чтобы дать себя разглядеть хорошенько. Иванов был в ярости. Его жена чуть ли не плевалась. Они провели бессонную ночь на печи. Молодой человек, Бобкин, пробежал мимо Сталина к окну и отогнул краешек тюлевой занавески. Он был уверен, что арест неминуем. Вдовец (которого звали Петр Егорьевич) понял, что его жизнь еще никогда не была в такой опасности. Он мысленно желал, чтобы граф наконец умер и Россия опомнилась.
— Вы нарушили революционную дисциплину, — хмуро заявил Иванов. Он уже оделся и сидел за импровизированным письменным столом, похожий на чиновника на зерноскладе. — Вы поставили под угрозу всю партию. Что если нас арестуют или убьют? Откуда вы знаете, что не привели за собой хвост? Вы должны были сидеть в Сибири до получения дальнейших инструкций!
— Там холодно.
Иванов грохнул кулаком по столу.
— Зачем вы приехали? Я знаю, зачем! Вы думаете, сейчас самое время для переворота, и вы надеетесь встать во главе его и обойтись без Партии! Я прав?
Сталин снял сапоги и пальто. Он сказал вдовцу:
— Нельзя ли вас побеспокоить насчет чаю?
Петр Егорьевич, счастливый, что получил задание, бросился к самовару. Новый гость сел на скамью у печи и вынул трубку. Он вытащил из кармана штанов кисет и набил в трубку немного табаку. Тщательно умял табак и закурил. Скоро помещение наполнилось черствым, едким дымом.
— Дорогой Владимир Ильич Ле…
— Иванов, — торопливо поправила мадам Иванова.
— Дорогой Владимир Ильич Иванов. Возглавить переворот, не имея поддержки Партии, было бы самоубийством, и к тому же рабочие не готовы, — сказал Сталин. — И вообще какой может быть переворот, когда под ногами путаются христиане в таком количестве. Но массовые выступления против царской власти — вполне вероятны, и Партии не помешает в них поучаствовать, верно? Ведь вы за этим сюда и явились, г-н Иванов? Подтолкнуть людей на забастовку или демонстрацию, и сделать так, чтобы кто-нибудь — не вы, конечно — поднял красный флаг? Чтобы наблюдать собственными глазами. Узнать расстановку политических сил. Я полагаю, мы приехали сюда с одинаковыми целями. — Сталин улыбнулся еще шире. — Так давайте не будем ссориться, товарищ.
— Ну хорошо, вы приехали. И что же вы узнали? — сердито спросил Иванов.
— Я был на станции, — ответил Сталин, не позволяя себе скатиться на тон упрека. Слов самих по себе было достаточно, чтобы выразить его мысль: Иванов не высунул носу из дома с момента прибытия в Астапово. — Необычайное для такой глуши зрелище: паломники, пророки, репортеры, телеграммы во все столицы мира. В России нет сейчас другого места, более прочно укоренившегося в двадцатом веке, чем Астапово. Это — революционный момент. По моим наблюдениям, это также и религиозный момент.