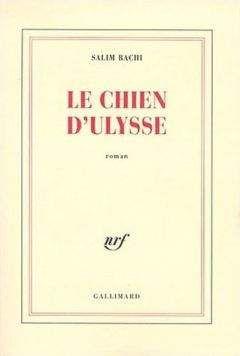Мир подходил к последнему пределу. Его обитатели разбредались по земле, кто куда, надеясь спастись от чудовищной волны, набиравшей силу на севере. Цирту со всех сторон окружал песок. Красный песок — сколько хватало глаз. Море поднималось. В незапамятные времена назначенное хранителем, оно готовилось накрыть собой все, от заката до восхода.
— Скажешь!
Я заперся в осажденной водами Цирте. Я не хотел больше их слышать. Я слушал яростный шум жидких масс, строившихся в когорты. Я слышал поступь неисчислимых легионов, которые вот-вот должны были обрушиться на мир.
Слово обретало плоть — страшную плоть.
— Говори!
— Во имя кого?
Того, кто, потрясая воздух, родился от ночи. Того, кто назвал небо небом, а воды водами и разделил их. Того, кто шелковистыми фестонами развесил созвездия и оставил их шириться, расти. Почему же я не находил слов, что воздвигают и творят? Почему дар речи оставил меня в час распада? Крики. До меня долетали крики. Они подтачивали фундаменты, грозили заживо похоронить меня. Одни лишь крики сопутствовали мне.
Эти развалины, эти дома на изрезанной трещинами земле, эти сорванные мосты, эти страницы, нанизанные на клинок сабли, эти сыпавшиеся мне на голову удары — было ли записано в них пророчество о моем воскресении, моем зените? Восстану ли я, как феникс, из этого пущенного по ветру пепла, из распятого скелета, обрету ли прежнее лицо и тело? Возродится ли мой город? Способны ли слова воспеть первые проблески его грядущей славы?
Я путался. Мое произведение горело. Никогда больше не возьмусь я за перо. Никогда больше не стану складывать слова, чтобы проложить борозду, где зародится жизнь.
Только что Мурад и я ушли от Рашида Хшиши, прихватив с собой Хамида Кайма. День клонился к вечеру, и свет понемногу терял резкость. Окуная листья в обжигающий ветер, большие эвкалипты кивали палево-голубому небу. Шагая рядом, Хамид Каим рассказывал:
— В последние дни восстание оказалось во власти единственного реально существующего идеологического движения — исламизма.
5 октября 1988 года часть молодежи бросилась на улицы Алжира с неистовством вышедшей из берегов реки. Паводок захватил многие города — не осталась в стороне и Цирта, — грозя начисто смыть издыхающую политическую систему. Восстание было подавлено с чудовищной жестокостью. По улицам Алжира ездили забитые трупами грузовики. Причинами такой катастрофы стали молодость манифестантов, в большинстве своем почти детей, и отсутствие политического проекта.
Мирная манифестация, потопленная в крови, послужила политической трибуной для движения, которое теперь могло прятаться за мертвецами, за пропавшими без вести, за искалеченными детьми, за вдовами.
— Когда я писал свои первые статьи, я не мог не видеть этой истины, — произнес Хамид Каим. — Демократы-эмигранты напрасно придирались друг к другу в радиоэфире, прикидывали так и эдак, порицали, спорили о происходящем — они ничего не знали о том, чем жил изнемогающий, затравленный народ, отчаявшаяся молодежь.
Журналист смотрел на нас. Мурад кивнул в знак согласия. Худое лицо Хамида Кайма морщилось от солнечного жара.
— И все же я думал, что еще возможно повернуть ход событий, вновь придать демократический импульс тому, что сбилось с пути истинного в безумной тяге к прошлому.
Эвкалипт опустил к нам свои листья. Мятное благоухание коснулось моих ноздрей, затем рассеялось, унесенное прочь множеством иных запахов этой земли — кроваво-красной, сумеречной и, как мне казалось, бесконечно усталой. Возможно, я ошибался. Неоспоримой истиной были лишь косые лучи света на наших лицах, пламя меж деревьев. Университетский городок в пять часов вечера был переполнен густыми благовониями юного лета.
После событий октября 1988 года, а может, и раньше Хамид Каим осознал жизнь как отсутствие, как громадное, ежедневно носимое одиночество, ставшее бременем, ярмом. Он обращал взгляд в будущее, которое, как говорили, принадлежало ему, и не мог различить в нем даже малейших признаков надежды. Некогда он жил, любил, но этого больше не было, и с этим следовало смириться. Теперь он довольствовался исполнением долга — чтобы, как он сформулировал для себя, избежать меланхолического безумия. По утрам он вставал, садился в поезд, который и вез его в город, шел по улицам — позже они станут внушать ужас, пока же ходить по ним было страшно из-за грязи, — поднимался по лестницам в редакцию. Там, поздоровавшись со всеми, он садился за стол и начинал работать над новой статьей.
Часто он откладывал ручку, вставал, подходил к окну своего кабинета и смотрел на серый город, катившийся вниз, к морю. Улицы набегали друг на друга, образуя некое подобие шахматного поля, клетки которого были заполнены островками жилых домов, небольшими парками, где точили лясы редкие гуляющие, и огромными пустырями, что были усеяны холмиками отбросов. Свалки захватывали города.
Он подолгу останавливался взглядом на этих обширных пространствах, копался в каждой складке пустыря, вычислял, как геометр, малейший наклон почвы, вникал в едва ощутимые топографические различия: тогда он ощущал, как между ним и этим неровным пустырем, между ним и этим полумертвым городом рождалось некое согласие, столь зыбкое, что оно не выдерживало и малейшей попытки его проанализировать. Но Хамид Каим умел растворяться, исчезать, уплывать в просторные, темные, грязные глубины города и моря.
— Как-то июльским вечером 1989 года, — вновь заговорил журналист, — мне позвонил юноша лет двадцати. Октябрьские восстания уже заволакивались дымкой воспоминаний.
Из тех потрясений возникла независимая пресса, вылупились бесчисленные политические партии, однако эйфория, идущая рука об руку с отвоеванной в ходе восстания свободой, понемногу спадала: все возвращалось на круги своя. По невероятному стечению обстоятельств рядом с цветущей свободой распускался другой цветок — отвратительный, буйный, болезненный. Исламизм позорил наши города.
Власти с удовлетворением смотрели, как прорастают зерна бури. Неужто они хотели снять кровавый урожай? Теперь на этот счет не оставалось никаких сомнений. Ночной звонок подтвердил то, что Каим уже подозревал. Человек на другом конце провода говорил тихо, словно боялся, что его подслушивают. Он выследил того, кто его пытал, и хладнокровно убил его. Кем был убитый? Агентом госбезопасности. Перед смертью из него удалось вытрясти признание: за октябрьскими волнениями стояли определенные армейские структуры.
Каим начал со статей, направленных против пыток. После убийства президента Будиафа, в чье ближайшее окружение он входил, он с удвоенной отвагой и яростью стал нападать то на власти предержащие, то на исламистов.
Однажды утром Каим обнаружил за порогом своей квартиры белую простыню, из которой выскользнул кусочек мыла. Простыня — саван, мыло — для обмывания покойника. Так ему давали понять, что он приговорен к смерти. Он ничего не предпринял, просто закрыл дверь.
Странное дело: за четыре года, истекшие со дня смерти Будиафа, исчезли все, кто его окружал, — журналисты, писатели, социологи, политики. По большей части они были убиты; некоторые умерли при невыясненных обстоятельствах. Сменявшие друг друга кабинеты министров возлагали ответственность за эти убийства на террористов. За исключением Хамида Кайма, не осталось свидетелей того, как правил Будиаф.
«В день смерти Будиафа, 29 июня 1992 года, я понял, что ждать от этой обезумевшей страны больше нечего, — продолжал Хамид Каим, шагая по кампусу. — Я продолжал писать. Я так любил ее. Любил ее волосы. Но Самира покинула меня, оставила один на один с книгами. Больше я так никого и не полюбил Я отступил от заповедей предков. Семь лет полной неожиданностей непредсказуемой жизни. Пришло время научиться приподнимать шляпу и, сделав в воображении пируэт, на цыпочках удаляться, по примеру клоунов, на чьи представления меня водили в детстве. Тех, что выкатывались на сцену, спрашивали нас, в чем смысл всего этого балагана вокруг, жаловались на соседей, рассказывали о своих неприятностях с дирекцией, а затем, в конце представления, раскланивались. Отец и мать вставали с мест и аплодировали в темноте. Я словно вижу их вновь: молодые, гордые, полные иллюзий. Война кончилась совсем недавно. Многие годы их жизни прошли в тягостных ссорах. Я был с отцом, когда он умирал. Он взял мою руку и сказал:
— Жалею, что не подарил тебе братьев и сестер, но твоя жизнь точно будет интереснее моей. Может быть, легче.
Потом отец умер.
Он происходил из бедной многодетной семьи. Часто рассказывал о детстве, о своем отце, которого жизнь, высосав до капли, на два долгих года бросила парализованным на убогом чердаке. Онемевшего окружали дети, слишком маленькие, чтобы понять, почему их отец больше не говорит. Когда ему было тринадцать лет, он работал на известковых шахтах в Эльзасе. Призванный на кошмарную войну, он исчез на пять лет и вернулся домой, когда жена думала, что его уже нет в живых. Он сделал ей новых детей и ее же ругал за то, что она, мол, плодит нищету. Поколачивал ее, как проговорилась мне одна из тетушек. Мой отец держался за миф о своих предках. Не отступался от гордости рабочего человека с трудной судьбой.