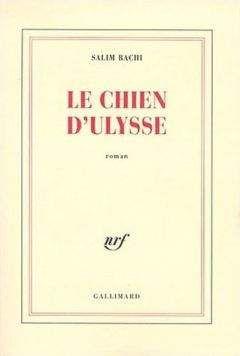— В нашей жизни было много героического, — бросил он мне как-то. — Мы выжили.
Да, они были героями. Мои дядья — я их не знал — погибли в партизанах; одного из них десантники во время сражения за Алжир пытали, а потом прикончили ударами топора. Моя бабка умерла через много лет после своего мужа. Больная старуха, разговаривавшая с дочерьми по-кабильски. Она никогда не упоминала о покойном муже, по-видимому тяготясь своим прошлым — прошлым женщины порабощенной и незамечаемой.
А теперь у нас опять век эпических поэм. По иронии Истории мы запустили новый цикл насилия. Две тысячи лет непрерывных войн. Из глубин нашего прошлого звучит призыв к крови и слезам, движется процессия вдов и сирот».
Мы гуляли неподалеку от все той же полыхающей аллеи эвкалиптов. Мурад курил сигарету, тридцать шестую за день. Я смотрел на огненное небо и слушал журналиста, которому уже совсем скоро нужно было уезжать. Тогда мы не знали, что это его последние дни.
Для нас был важен только свет.
В тот день 29 июня 1996 года у нас были все основания думать, что смерть прошла мимо журналиста. Сам же он помнил о белой простыне и кусочке мыла. Тем вечером он возвращался в Алжир, Мурад шел домой, к родителям, а я — на работу в гостиницу «Хашхаш».
Нынче ночью прогулка по Цирте успокаивала меня. Непроницаемый город позволял мне идти туда, куда я хотел. Он больше не пытался ни соблазнить меня, ни напугать. Его улочки больше не разверзались у меня под ногами, убогие домишки оставались закрытыми. Торговцы мебелью, набиватели матрасов, медники не возникали из тьмы, не преследовали меня в часы моего бодрствования. Ни один поток прохожих не катился вниз по тропинкам моей памяти, ни одна женщина, отягощенная корзиной с овощами, не подгоняла перед собой кучку сопливых детей, окруженная, как ореолом, мерцающими запахами сорванных на заре петрушки и мяты. Зеленые лимоны не испускали свои летучие, похожие на маленькие смерчи ароматы, благоухание жасмина не цепенило мой ум. Конец рассказам о пиратах; хватит делать подонков героями сопротивления; мне опротивели безумные легенды, что родились из трех тысячелетий войн, слез, крови. Даже на террасах больше не было томных женщин, и за шерстяными тканями, складками драпировок, покрывалами из белого или кремового льна уже не перестаивала никакая плоть, не предавалась мечтаниям любимая наложница, лаская себе вульву, с пеной в углах рта, любители подглядывать больше не погружались в сон, пяля глаза на какую-нибудь сапфическую сцену, убаюканные пением слепого барда родом из Андалусии. Напевные жалобы давно минувшего времени не разносились над водой, над остриями пены. Да и море теперь не было страшно ни путешественнику в дальнем странствии, ни одинокому капитану, и самолеты легко садились в крепости. Еще шаг, и я представил себе, как исчезает война, вливавшая в нас свою ярость, как приходит конец терроризму, возвращаются гражданский мир, демократия, становятся свободными женщины, которых я любил.
Я любил их всех, желал видеть их равными в радости, счастье, благополучии, да что там! Югурта мог сбросить доспехи, Сифак — заснуть беспробудным сном, Масинисса — оставить Карфаген в покое, Ганнибал — с головой нырнуть в капуанские наслаждения.
Я пересек западную равнину и вышел на берег. Морю снились голубоватые сны. Я забавлялся игрой с прибоем. Сосредоточенный шепот волн делал почти осязаемым течение времени, медленное и печальное. Оно плыло вслед за волнами. Мною овладело чувство вечности. Я растянулся на песке, обратил лицо к звездам и предался ощущению неукротимой и к тому же чужой жизни, чье упрямое биение протекало по моему телу, не оставляя никаких примет, еще менее постоянное, чем след ветерка на крыле бабочки. Я жил полной, уносящей меня от действительности жизнью — отданной ощущениям, попавшей в плен к песням ночи, затверженной волнами. Короткая жизнь. Новая жизнь.
Каим уехал. Самолет каждый вечер поднимался в воздух над Циртой, извилистым маршрутом пролетал над лентой побережья и наконец приземлялся в Алжире. Журналист вернется к своей жизни в той самой точке, где он прервал ее, в скромном кабинете. Выйдя из комнаты Хшиши и Рыбы, он взял меня и Мурада в наперсники и рассказал нам о себе. Почему он выбрал нас? Другие, Рашид или Рыба, тоже прекрасно бы подошли. Что касается Мурада, то причина здесь вполне очевидна. Говоря с нами, Хамид Каим обращался к следующему поколению, к потомкам. У Мурада тоже с уст не сходили слова «потомство», «вечность» и еще бог знает какие. Неуемное воображение пагубно воздействует на рассудок молодого человека. Мне об этом кое-что известно. Я, как мне казалось, уловил в словах Кайма желание исповедаться. Этот человек освобождался от груза жизни. Между прочим, он рассказал нам гораздо больше, чем требовалось. Он даже частично поведал историю своих чувств. Историю любви, настоящей и очень скоро загубленной, к молодой женщине по имени Самира. Усиливающаяся хандра. Путешествия с другом, Али Ханом. Возвращение Одиссея. И в самом конце — ночь, небытие. В девять часов вечера, когда я шел в гостиницу, из слов Кайма стал сочиться яд. Я почти уверен, что, не будь его истории, не случилось бы ни одного, даже самого незначительного из тех событий, что занесены в этот дневник.
Мабрук-хаджи, весь в слезах, поджидал меня на пороге гостиницы «Хашхаш».
— Сын мой, на наш дом обрушилось большое несчастье, — выговорил он хриплым от рыданий голосом. — Мой брат Тубрук-хаджи попал в больницу.
Он втащил меня в свой притон.
— Что такое?
— Большое несчастье, сын мой, большое несча-а-а-стье!
Он подвывал, простирая руки к небесам, потом ронял их, обхватывал голову ладонями, даже принялся рвать свои жидкие волосы.
— Тубрук-хаджи купил пятьсот миллионов франков и пошел в банк, — продолжал он, икая. — Там ему сказали, что эти деньги фальшивые. Все до одной купюры фальшивые, сын мой. Большое несча-а-а-а-астье, сын мой.
Он снова взвыл.
— Как чувствует себя хаджи?
— Миллиард, сын мой, миллиард!
— Ну а хаджи? Он в больнице?
— Испарился!
— Он умер?
— Как дым!
— Да примет Господь его душу.
— Да-да, пусть примет Господь его душу, сын мой. Пусть примет Господь его душу.
Клочья волос летели во все стороны.
— НА КАКОЙ ДЕНЬ НАЗНВЧЕНЫ ПОХОРОНЫ?
— Какие похороны?
— Похороны Тубрука-хаджи.
— Почему? Он умер? — спросил он, остолбенев.
— Да я не знаю. Вы же сами только что сказали, что он мертв.
— Удар, сын мой. Упал. Замертво! Как пришибленная муха. Но не умер. Миллиард, понимаешь, сын мой? Миллиард динаров! Лучше бы ему было умереть.
— Как вы думаете, у него есть шанс выкарабкаться?
Он задумался.
— После этого миллиарда? Сомневаюсь.
— Ну значит, — сказал я, — он умрет, сраженный случившимся.
— Нет.
— То есть как нет?
— Ты недобр, сын мой. Ты желаешь нашей погибели.
— Да нет, что вы!
— Желаешь. Ты нам обоим желаешь гибели, ты послан дьяволом!
Глаза вылезали у него из орбит.
— Иблис! Иблис! Во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердного! — забубнил он под лестницей. — Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет — пророк Его. Ты проклят, сын мой! Проклят! И потомство твое будет проклято! Это ты все так подстроил, что мы потеряли миллиард.
— Да никогда в жизни!
— Это все твой дурной глаз, ты завистливый пес!
Хаджи схватил «руку Фатимы», висевшую на стене, и стал натужно ее лобызать. Потом простер ее перед собой, крича:
— Изыди прочь, нечистый дух!
Он надвигался на меня, потрясая маленькой рукой из верблюжьей шерсти. Размахивал ею у меня перед носом, чертя в воздухе загадочные знаки. Несколько раз он чуть не заехал мне кулаком по физиономии.
— Уходи! Оставь тело несчастного Хосина, славного юноши! Покинь бренную оболочку этого доброго мусульманина! Это не твое жилище. Иблис! Иблис, Иблис, повелеваю, изыди!
Он протянул мне мое жалованье, в том числе неустойку за увольнение — не бог весть что.
То ли дьяволом, то ли славным парнем покинул я гостиницу «Хашхаш», решив идти домой.
Цирта изнемогала, исходила мукой. Густая ночь, как тяжелый занавес из темной парчи, покрывала улицы, дома, небо. На отяжелевших тротуарах возились коты. Они играли, запускали друг в друга когти, мяукали, дрались за кусок рыбы, за обрезок мяса, за отбросы. Последние ротозеи торопились по домам. Я представлял себе их жизнь, их квартиры, семьи, лестничные клетки, подъезд: с наступлением ночи, когда отовсюду подступало безмолвие, они бросались в него будто в пропасть, встречались с соседом — смельчак спускался по разбитым, чаще всего загаженным, обреченным на разрушение ступенькам. У выхода из подъезда он на мгновение останавливался и, собравшись с духом, выбегал в город. Станет ли он ходить часами, как я? Будет ли, как я, стучать каблуками по знакомой тени на натруженном асфальте, по неровной брусчатке нищеты? В этих узких улицах, на ушедших во тьму многоликих бульварах — они оживали, окликали друг друга во мраке, выли от того, что не могут сползтись, стать клубком свившихся змей, — стряхнет ли он с плеч оседлавшую его дряблую судьбу? Биение, медленное, мерное, разрезало тишину, звучало в такт нашим шагам, нашим обезумевшим механизмам, абсолютной необходимости — мы ощущали ее как рабство — все двигаться и двигаться вперед. И драться за каждый шаг. И драться за каждый вздох. Как коты. На окраине мира, на углу какого-то переулка я повстречался с Ходом Времени. Он валялся на своем гноище. Его волосы были черны и засалены; он пил вино из горлышка бутылки.