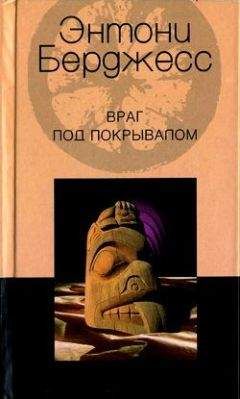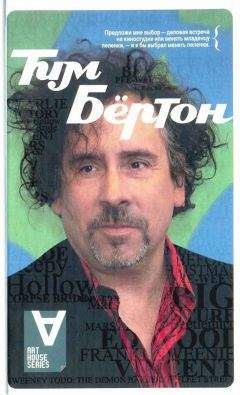Он сел в постели, закурил сигарету. Слабые звуки ночной тишины – краткое щелканье домашних ящерок за охотой, гул холодильника, питаемого домашним генератором, далекое лягушачье кваканье, ровное дыханье Фенеллы. Он взглянул на замершую фигуру на соседней кровати, почувствовал жалость. Она столько ему отдает, но никогда не получает в ответ теплоту, которую он проявляет даже к случайной любовнице. Сделать тут ничего не возможно: никто не займет место первой, единственной. И все же он верил: есть шанс, особенно после того, как другой страх преодолел боязнь опять сесть за руль, когда террористы в засаде ранили в руку водителя, и было нечего больше делать, только перехватить руль. Однако сон вернулся вместе с безнадежным сознанием, что Фенелла не стала для него тем, чем должна была стать. Слыша теперь шум моря, он содрогнулся при мысли о вновь смыкающейся над головой воде, о том, как его поглощает стихия другой женщины.
Краббе встал, не в силах вновь заснуть, может быть, даже боясь вновь увидеть тот сои, и вышел из спальни. В гостиной налил себе виски, очень медленно принялся его потягивать. Заметил на столе начатые Фенеллой стихи. Рукопись густо испещрена тщательными поправками в поисках верного слова и рифмы. С жалостью прочитал:
Земля, где птицы песен не поют, цветы
Не пахнут, время не течет; тут
Ритмы северной земли застыли; часы —
Кусочки льда; и годы не идут,
Стоят, подвластные лишь лунным фазам,
А солнце здесь – Аллах, не аватара;[38]
Жизнь чахнет, рассыпается под неусыпным глазом
На радостное чавканье животного, чей разум
Живет одним лишь днем. Далека и стара
Та жизнь, что измеряется годами и трудами, но День полета может к ней вернуть…
Стихи не очень хорошие – путаные, рифмы грубые. Бедная Фенелла. Но факт ее несчастья надо очень серьезно учитывать, а она, безусловно, никогда не будет счастлива здесь, на Востоке. Это не ее вина. Она принадлежит Северу, миру весны и осени, культур, выросших из ослабления и усиления солнца, – зимние соболя на обнаженных плечах, сияющих под центральным отоплением, книги у камина, родившиеся из огня мифы.
Он дважды предлагал ей вернуться в Лондон, ждать там окончания срока его службы, надолго расставшись друг с другом. А что потом? Он рассчитывал вернуться, работая на Малайю до выхода в отставку или пока Малайя ему это позволит. И если нельзя дать Фенелле большую любовь, надо дать хотя бы часть желаемого, – быть с ней, жить там, где у нее были бы библиотеки, и музыка, и балет, разговоры об искусстве; ведь для него место жительства не имеет большого значения. Только он чувствует, что сейчас его место в Малайе, что его долг – показать Малайе не самые безобразные западные аспекты, подготовить ее к управлению опасным западным двигателем.
Краббе вернулся в постель и дремал до рассвета – неизменного тропического рассвета массового производства, не приветствуемого птичьим хором, рассвета, одинакового в любой месяц па этой земле, не знающей времен года. Народ в кампонгах уже ест холодный рис, рыбаки бредут к берегу. А-Винь радостно ставит па кухне чайник, собирает продукты для очередного гаргантюанского завтрака. Фенелла права насчет жизни единственным днем, насчет кубиков времени – овсянка, потом копчушки, потом яичница с беконом, потом рутинная работа: чавканье животного, время от времени поглядывающего на луну. Хорошо или плохо, таков его путь; он утратил желание жить более сложной и цивилизованной жизнью с той январской ночи.
Абан знал, конечно, что дни его сочтены. Но не роптал. Наряду с предшественниками он сполна попользовался властью, имуществом, женщинами. Деньги хранились в Австралии, имелись каучуковые и оловянные акции, парк автомобилей, ювелирные изделия, драгоценные камни, всевозможное наследство. Что бы там ни было, Абан с многочисленным потомством с голоду не умрет. Возможно, придется жить великолепным изгнанником в Каинах, в Монако, на Капри. Таких мест он еще не видел, но имел грубое представленье о Западе, грезил о новых типах власти, о возможности вознестись – подобно некоторым царственным сынам Пророка – на высоты восточного мифа путем бракосочетания с голливудскими кинозвездами. Видел себя в красивом костюме, в сонгкоке, с поклонами препровождаемого в пышные апартаменты «ритцей» и «уолдорфов»; в темных очках, подставляющего волосатую грудь спокойному солнцу у тихого моря. Видел себя, входившего в казино, слышал уважительный шепоток в адрес царственной особы в изгнании.
Царственной. Шутка, конечно. В его похотливом, хорошо сложенном теле не имелось ни капли королевской крови. Были раджи, получавшие несколько долларов в месяц, работая школьными учителями; тенгкусы, трудившиеся в мастерских. В туманных анналах Дахаги – отчасти исторических, отчасти легендарных – энергичные крестьяне получали власть над старчески слабоумным или сошедшим с ума от третичного сифилиса султаном, и миф претворялся в жизнь. Сам он не верил в сказку о происхождении из фекалий священного быка, в магическую акколаду[39] Духа Принцессы, но верил в силу традиции, способную возвысить текущую в некоторых глубочайших каналах штата земную кровь над жидкой голубой. Раджи и тенгкусы кланялись, сложив руки, тому, чей титул представлял собой грубый кампонгский окрик, ибо словом «абан» презрительно окликали слугу, не зная его настоящего имени. «Абан» означает «старший брат».
Абан читал Джорджа Оруэлла,[40] поражаясь необычайной уместности титула Правитель Океании. Какое-то время он тешился мыслью расклеить по всей Дахаге плакаты; плакаты, где под изображением его могучей головы шла бы подпись: СИ-АБАН МЕМАН-ДАН АВАК. Только поймут ли смысл его подданные малайцы? Ничего, он о них позаботится. Зачем он о них заботится? Больно уж они красивые, что ли? Но раз он о них заботится, и они вполне могут о нем позаботиться. Что кому-нибудь принесла подобная забота? Так или иначе, о чем заботиться? Впрочем, все его подданные, разумеется, пролы.
Правление Абана в эпоху возникновения методов бесконечной лапидаризации любого правления было обречено из-за возникновения партий. Политика была новинкой; все кричали: «Мердека!» Возникал новый класс: мелкие интеллектуалы, неудачники бакалавры искусств, разочарованные юристы, учителя – даровитые болтуны. Еще год, и придет независимость. Султаны попадут в аномальное положение, абаны вообще лишатся всякого положения. Централизация, директивы, куча бумаг, очкастая бюрократия, только отныне в кондиционированных офисах не будет видно ни одной белой презрительной физиономии. Британцев скоро выдворят; вместе с ними придет конец феодальному правлению.
В каком-то смысле забавно, что крах колониализма означает также крах причудливой сеньории в Дахаге. А в другом смысле – нет. Британцы многим обязаны аномалиям – аномальным личностям, аномальной этике, конституционным аномалиям. Аномалий при новом режиме не будет: яркий белый свет разгонит романтические готические тени. Потом, если динамомашина откажет, импортируют другую динамомашину, дающую яркий красный свет. Родится мечта о порядке – пожалуй, рассуждал Абан, романтическая в своем роде, но романтизм опасен, чреватый самообманом, – скорее всего, основанная на расовой мистике. Абан боялся красных орд, их передовых отрядов, таившихся в джунглях. Они не мечтают, а твердо стоят на земле, руководствуясь смертоносной логикой.
И других людей надо учитывать, – ра'айят, пролов. Неисправимые массы. Жизнь в кампонгах, рисовые поля, ловля рыбы, колдовство, суеверное бормотанье Корана, нищета – ничего не изменится. А правители будут от них далеки, мучительно осваивая новый язык, готовые исполнять властные директивы, которых крестьяне не понимают. Малайская гегемония не будет иметь никакого значения для реальной Малайи.
Теперь, на заре независимости, Абан начинал испытывать к британцам какие-то теплые чувства. Высокомерные, белые, толстые, неуклюжие, абсолютно не симпатичные, холодные, может быть, алчные, – вполне допустимо приписать им все это, – по Малайя без них опустеет. Общий враг был вдобавок и общим законодателем: холодность можно назвать правосудием. Слишком поздно дружить, слишком поздно пытаться учиться. Но можно хотя бы не любить с симпатией и провожать с улыбкой.
Сегодня, вспомнил он, к ленчу придет белая женщина. Наверно, она станет последней в ряду, хотя в каком-то смысле первой. Может быть, скоро он будет жить в ее мире, сам станет изгнанником. Обойдется с пей ласково, почитая в ней символ, соблазнит не сразу, культурно. Пошлет за ней лучший автомобиль с самым любезным шофером.
Абан вышел из своих апартаментов, спустился по отполированной лестнице – никакой спешки босыми ногами, – направился в дальнюю часть Истаны к царским гаражам. Там располагалась конюшня начищенных любимцев, обтекаемых глазастых покорных зверюг, собранных за многие годы. Конюхи их надраивали, посвистывая. «Даймлер», «бьюик», «роллс», «бентли», «ягуар», «остин-принсесс», «гудзон» – словно список героев. Все известные породы, кроме «абеляра». Добавится и он. Абан уже выяснил, что недавно прибывший в штат экземпляр в отличном состоянии, с четырьмя новенькими фирменными покрышками. Забавно, что его хозяин – муж той самой белой женщины, которая придет к ленчу. Что ж, это будет, возможно, последнее приобретение. Как-то нехорошо, что одного мужчину дважды придется обидеть. Впрочем, это, может быть, символично: «ракам», «креветкам», или какой их там рыбой прозвали в насмешку,[41] суждено стать последней жертвой, ибо они последними вторглись. Больше в Дахагу не явятся новые экспатрианты, кроме, пожалуй, индонезийских филологов или теологов, поэтому омары, лангусты стали неким сумеречным осязаемым прошлым.