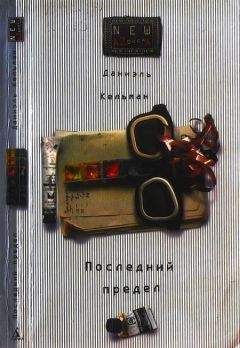Я и не представлял себе, что он такой маленький, просто крошечный, и неуклюжий, — ничего не осталось от прежней стройности, запечатленной на фотографиях. На нем был свитер и непрозрачные черные очки. Мириам вела его под руку, другой рукой он сжимал белую трость. Кожа у него была изжелта-смуглая, в морщинах, жесткая и огрубевшая на вид, дряблые щеки обвисли, кисти рук казались неестественно большими, растрепанные волосы встопорщились. Он был в потертых вельветовых штанах и кедах, правый шнурок развязался и волочился за ним по полу. Мириам подвела его к креслу, он ощупью нашел подлокотник и сел. Она не села и пристально смотрела на меня.
— Вас зовут Цёльнер.
Я растерялся: это прозвучало утвердительно, к тому же мне пришлось побороть приступ непонятной застенчивости. Я протянул руку, встретился взглядом с Мириам и снова ее отдернул; ну конечно, что за неловкость! Я откашлялся.
— Себастьян Цёльнер.
— И мы вас ждем.
Это что, вопрос?
— Если не возражаете, — предложил я, — мы можем начать прямо сейчас. Я проделал большую подготовительную работу.
И правда, ради этого я почти две недели мотался в разъездах. Я еще никогда не занимался одним проектом так долго.
— Вы удивитесь, когда узнаете, скольких ваших старых знакомых мне удалось найти.
— Подготовительную работу… — повторил он. — Знакомых…
Меня охватила легкая паника. Он вообще понимает, о чем речь? Он пожевал губами, склонил голову и, казалось — но это была, конечно, иллюзия, — смотрел мимо меня на картину на стене. Я беспомощно взглянул на Мириам.
— У отца мало знакомых.
— Не так уж мало, — возразил я, — в одном Париже…
— Вы должны меня извинить, — сказал Каминский, — я только что встал с постели. Два часа пытался заснуть, потом принял снотворное и встал. Мне нужен кофе.
— Тебе нельзя кофе, — напомнила Мириам.
— Приняли снотворное и встали? — переспросил я.
— Я всегда тяну до самого конца, все думаю, вдруг все-таки засну без снотворного. Так, значит, вы мой биограф?
— Я журналист, — пояснил я, — публикуюсь в нескольких крупных газетах. Сейчас работаю над вашей биографией. У меня к вам несколько вопросов, если хотите, можем начать завтра.
— Статьи пишете? — Огромной ладонью он провел по лицу. Челюсти у него безостановочно двигались.
— Прежде всего вы будете работать со мной, — вставила Мириам. — Ему нельзя волноваться.
— Мне можно волноваться, — откликнулся он. Свободной рукой она обняла его за плечо, улыбнувшись мне поверх его головы:
— Врачам виднее.
— Я благодарен за любую помощь, — осторожно начал я, — но, разумеется, в первую очередь я буду интервьюировать вашего отца. Он первоисточник как таковой.
— Я первоисточник как таковой, — повторил он.
Я потер виски. Все шло к чертям. Ну при чем тут волнения? Мне тоже нельзя волноваться, да никому нельзя. Ну просто смешно!
— Я большой почитатель вашего отца, его картины изменили… мой взгляд на мир.
— Но это же не так, — сказал Каминский.
Я покрылся испариной. Конечно, это было не так, но я еще никогда не встречал художника, который не поверил бы этой лжи.
— Клянусь вам! — я прижал руку к груди, вспомнил, что этот жест не может произвести на него впечатления, и поспешно ее убрал.
— Более преданного поклонника, чем Себастьян Цёльнер, у вас нет.
— Чем кто?
— Чем я.
— Ах да. — Он вскинул голову и снова опустил, на какую-то секунду у меня возникло ощущение, будто он на меня посмотрел.
— Мы рады, что эту работу доверили именно вам, — сказала Мириам, — предложений было много, но…
— Не так уж много, — перебил ее Каминский.
— Ваш издатель очень рекомендовал вас. Он о вас весьма высокого мнения, — добавила Мириам.
Трудно было в это поверить. Я только однажды встречался с Кнутом Мегельбахом у него в офисе. Он метался по своему кабинету, одной рукой брал книги с полок и снова заталкивал назад, другой играл мелочью в кармане штанов. Я вдохновенно лгал о предстоящем Ренессансе Каминского: будут появляться новые диссертации, парижский Центр имени Помпиду подготовит специальную выставку, а историческая ценность его воспоминаний? Нельзя забывать, с кем он был знаком, ведь его учил живописи Матисс, он дружил с Пикассо, его воспитывал Рихард Риминг, великий поэт. Я хорошо знаком, собственно говоря, даже дружен с Каминским, нет никаких сомнений, что он будет говорить со мной откровенно. Недостает лишь самой малости, чтобы он стал предметом всеобщего интереса, о нем будут писать в иллюстрированных журналах, цены на его картины поднимутся, а его биография точно будет бестселлером.
— И что же это? — спросил Мегельбах. — Чего не хватает?
— Конечно, пусть сначала умрет.
Какое-то время Мегельбах ходил туда-сюда и размышлял. Потом он остановился, с улыбкой посмотрел на меня и кивнул.
Я ответил Мириам:
— Весьма польщен. Кнут — мой старый друг.
— Так как, вы сказали, вас зовут? — спросил Каминский.
— Мы должны еще кое о чем договориться, — вставила Мириам. — Услуга…
Ее прервал звонок моего мобильного телефона. Я вытащил его из кармана штанов, увидел номер абонента и отключил.
— Что это было? — спросил Каминский.
— Услуга за услугу: будьте любезны показывать нам все, что собираетесь публиковать. Вы согласны?
Я посмотрел ей в глаза. Я ждал, что она отведет взгляд, но, как ни странно, она не сдалась. Я уставился в пол, на свои грязные ботинки.
— Конечно.
— А что касается старых знакомых, они вам не понадобятся. Для этого есть мы, — сказала она.
— Само собой.
— Завтра меня не будет, можем начать послезавтра. Вы зададите мне вопросы, а если возникнет необходимость, отец что-то дополнит.
Несколько секунд я молчал. В тишине до меня доносилось свистящее дыхание Каминского, он причмокивал губами. Мириам посмотрела на меня.
— Согласен, — произнес я.
Каминский наклонился и закашлялся, плечи у него затряслись, лицо покраснело, он прижал ладонь ко рту. Я с трудом удержался, чтобы не похлопать его по спине. Когда приступ прошел, он оцепенел, словно выпотрошенный.
— Значит, мы все выяснили, — сказала Мириам. — Вы остановились в деревне?
— Да, — ответил я неопределенно, — в деревне.
Уж не предложит ли она у них переночевать? Это было бы мило.
— Ну хорошо, нас ждут гости. Встретимся послезавтра.
— У вас гости?
— Соседи и владелец галереи, где отец выставлялся. Вы его знаете?
— Говорил с ним на прошлой неделе.
— Мы передадим ему, что вы у нас были.
Мне показалось, что она уже думает о чем-то другом. Она неожиданно крепко пожала мне руку и помогла отцу встать. Они медленно пошли к двери.
— Цёльнер, — Каминский остановился, — сколько вам лет?
— Тридцать один.
— Почему вы это выбрали?
— Что?
— Журналистику. Зачем вы пишете для крупных газет? Чего хотите добиться?
— Мне это просто интересно! Многому учишься, можешь заниматься тем, что…
Он покачал головой.
— Да мне просто не хочется делать ничего другого!
Он нетерпеливо стукнул тростью о пол.
— Ну, не знаю… Так получилось. Раньше работал в рекламном агентстве.
— Ах вот как?
Это прозвучало странно; я смотрел на него и пытался понять, что он хотел этим сказать. Но голова у него упала на грудь, а лицо утратило всякое выражение. Мириам вывела его, и я услышал, как по коридору удаляются их шаги.
Я уселся в кресло, с которого только что встал старик. Сквозь окно косо падали солнечные лучи, в них танцевали серебряные пылинки. Неплохо, пожалуй, было бы здесь пожить. А почему бы и нет: Мириам лет на пятнадцать старше меня, но сойдет, она еще ничего себе. Старик скоро умрет, нам останутся этот дом, его состояние, наверняка некоторые картины. Я буду жить здесь, распоряжаться его художественным наследием, может быть, открою музей. У меня наконец будет время для серьезной работы, напишу толстую книгу. Не слишком толстую, но достаточно толстую, чтобы занять место на полках книжных магазинов, где стоят романы. Может быть, с картиной моего тестя на обложке. Или лучше что-нибудь из классики? Вермеера{4}? Название темным шрифтом. В хорошем переплете, на плотной бумаге. Связи у меня есть, значит, положительные рецензии обеспечены. Я покачал головой, встал и вышел.
Дверь в конце коридора теперь была закрыта, но из-за нее по-прежнему доносились голоса. Я застегнул пиджак. Сейчас потребуется вся моя решимость и умение завязывать контакты. Я откашлялся и быстро вошел.
Большая комната с накрытым столом и двумя картинами Каминского на стенах: одна — совершенно абстрактная, другая — туманный городской пейзаж. Вокруг стола и у окна стояли люди с бокалами в руках. Когда я вошел, все замолчали.