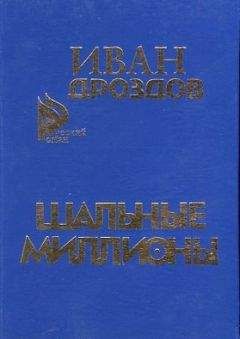Вот и в этой новой повести в хутор, где живет ее героиня, приезжает из Москвы молодой человек, — бизнесмен в духе времени, миллионер, и не из тех, которые наживают миллионы перепродажей, а глава фирмы, производящей консервы из продукции пригородного совхоза. Он молод и тоже хорош собой…
Перо ее летало по страницам, — на этот раз она писала так быстро, что рука едва поспевала за мыслью. И было уже девять утра. В дверях появился Костя:
— Эй, работник, вас ожидает завтрак.
Из кухни-столовой шел соблазнительный запах жареной картошки и малосольных огурцов. Костя сам приготовил еду, и оба они с дядей уже сидели за столом.
Анюте было неловко, но спускалась по лестнице счастливая. Говорила:
— Хорошо бы так всегда: мужчины стоят у плиты, а женщины дрыхнут до обеда.
— Знаем, знаем, как ты дрыхнешь, — корил ее дед. — Спозаранку встала. Я ведь был на дворе, когда ты поднялась. Молодая, тебе бы спать без задних ног, а ты ровно дед столетний, сон гонишь. Поди, рассказы все пишешь. В прошлую зиму сколько тут написала. Ты хоть бы читала нам.
— Я, дедушка, мною рассказов решила написать, да вот удастся ли соорудить хоть один стоящий?
— Не скромничай слишком-то, — продолжал дед, — книжку твою прочитал: у тебя все рассказы интересные и, пожалуй, получше будут, чем у Чехова, — у того все стонут и плачут, будто в лесу заблудились. Сам, бедолага, хворый был, так и люди у него мешком прибитые. У тебя же люди крепкие, умные, и каждый при деле. Одним словом, — дончаки! Умница ты у нас. И как только в головушке твоей такой красивой столько таланта поместилось!
Анюта не носила модных коротких юбок, и куртки со множеством молний и карманов у нее не было. Одета просто: кофта белая с маленьким кружевным воротничком и юбка расклешенная книзу колоколом, на плечах — ею же связанная дымчатая накидка без рукавов. Копна шелковистых волос небрежно кинута на затылок. Все в ней было по-домашнему и дышало свежим ароматом молодости, нерастраченной силы и могучей женской природы. Впрочем, лицо выдавало нежность и хрупкость девичьей натуры, оно было младенчески свежим, а глаза светились наивной верой. Она была спокойна, как бывают спокойны дети, казалось, что тревоги жизни ее не коснулись. И красота ее была природной, таинственно притягательной. Костя поймал себя на мысли, что смотреть на нее было ему не просто, он вдруг понял, — и ему стало страшно от этого, — что Анюта будет принадлежать не ему, — теперь уж не было сомнений, что любит ее, и так, как не любил ни одну женщину, — возможно, просто не знал, что же такое — любовь…
Вчера вечером звонила Амалия, спрашивала о квартире, даче, — он сказал, что в порядке, а сам еще и не бывал там. И не думал, как быть Амалии, — лететь ли в Питер или отдыхать там, соврал: «Живи там, это необходимо, — я прилечу к тебе, и мы все решим».
Почему это необходимо, когда он прилетит — этого и сам не знал, а только хотел, чтобы Амалия жила у отца и не путалась у него под ногами. «А еще недавно стремился к ней, мечтал… О, Боже! Слаб человек и не ведает, куда пойдет завтра, что будет делать…»
За завтраком он почти ничего не говорил, а ел мало и рассеянно, — боялся лишний раз поднять глаза и посмотреть на Анну. Хотелось бы глядеть на нее и глядеть, а — не может. Красота, как и солнце, — ослепляет.
Зазвонил телефон. Говорил Старрок:
— Костя, приезжай. Есть дело, которое могу доверить только тебе. Скорее. На машину и — ко мне.
В голосе слышались нотки благодарности, почти нежность. «Доволен, — подумал Костя. — Пересчитал все, доволен». Поднялся, сказал:
— Вызывают на службу.
И — к дяде:
— Поживу у вас. А? Не возражаете?
— Костя! Что это такое ты говоришь? Ты же знаешь: люблю тебя как сына и всегда рад тебе. Да и Аннушка, я думаю…
Тронул девушку за плечо.
— А-а?..
Анна смотрела на Костю.
— Нам без вас будет скучно. Приезжайте скорее, а если задержитесь — звоните.
И глаза ее выражали: «Да, нам без вас скучно. Слышите?..»
С радостным, волнующим сознанием, что он нужен, приятен Анне, подходил к машине.
Костя подъехал к милиции на «мерседесе», и, кажется, никто этому факту не придал значения. Поставил машину под окнами своего кабинета.
Генерал принял Костю радушно: вышел навстречу, тряс руку.
— Майор… Через месяц ты — подполковник. Звонил министру, — подпишет.
Говорил тихо, не хотел, чтобы их слышали.
Прошел на свое место, посадил Костю рядом. Долго подступался к разговору, что-то мешало. Вышел за дверь, вернулся.
— Сядем в твою машину, поедем.
Костя не спрашивал, куда они поедут и зачем. По дороге понял: генерал хотел уединиться.
В пустынном переулке остановил машину.
— Ты, Костя, запоминай и мотай на ус все, что я тебе скажу. Нам с тобой предстоит операция, равной которой, видимо, не знает криминальная история всех времен. Над нею с месяц работала московская милиция, но я их отшил, пообещал разгрызть орешек своими силами. И выбрал на главную роль тебя. А теперь слушай.
В одном питерском музее, — наиглавнейшем, конечно, — пятьдесят пять лет сидит страшный зверь: Регина Бондарь, главный консультант и оценщик реликвий. Кабинет ее — гигантский стальной сейф со множеством отделений, с секретными замками и запорами. У нее каталоги редких старинных изделий, приборы для определения проб золота, чистоты бриллиантов, камней, характера и стиля отделки. Она действительно большой мастер, но к нам поступил сигнал: за полстолетие с лишним у нее в сейфах осело множество реликвий — особо ценных ювелирных изделий. Она — как скупой рыцарь из пушкинской драмы, упырь, засосавший в свои кладовые украшения царских особ, княжеских, графских жен и дочерей, сокровища промышленных магнатов. И ценности эти не учтены, бесхозны, — они в любое время все разом могут уплыть за границу.
— Но как же такое может случиться у нас, в социалистическом государстве, где подобные ценности должны принадлежать народу?
— Да, у нас и такое стало возможно. А все дело в том, что директором музея и всех хранилищ при нем все время был ее двоюродный брат. Он, как ты, наверное, слышал, недавно Богу душу отдал. Туда пришел другой, но тоже какой-то близкий ей человек, и он ее трогать не станет.
— Я кое-что слышал о темных делах в музее. Секретарша прежнего директора будто бы уехала в Израиль и там в Тель-Авиве открыла ларек по продаже русского антиквариата.
— Если и эта старая карга улепетнет в Израиль или в Штаты, она там откроет целый супермаркет по продаже наших реликвий. Да-да, у меня есть верные сведения.
— Но почему же не заняться ими открыто, назначить следствие, все опечатать?
— Ну, ну, — пошел, поехал.
Старрок укоризненно покачал головой.
— Ты, майор, спустись на землю. Следствие, опечатать… С приходом к власти демократов закон умер в нашей стране. Богатства становятся добычей умных и сильных. Старая музейная крыса попала на мушку трех мафий. Московскую я отбил, но лишь на время. Никто не знает, что они там замышляют. И если я остановил выбор на тебе, то лишь потому, что в битвах трех мафий решил одержать победу. Ты выйдешь на переднюю линию боя и победишь. Поверил я в тебя — вот в чем дело. Убрать так Тариэла, как ты его убрал, — тебе бы и Шерлок Холмс позавидовал. Я бы дорого дал, чтобы узнать, как ты это все обмозговал.
— Тариэл утонул.
— Ладно, ладно, убрал — и дело с концом. Мерзавцу туда и дорога. Нам предстоит операция поважнее. Мы, как патриоты, должны выполнить свой долг.
В последнее время Старрок все чаще ругал демократов, открещивался от них и называл себя патриотом. Видно, чутьем слышал грядущие перемены и загодя готовился к переходу на другой корабль.
И еще заметил Костя: Старрок то ли по забывчивости проговаривался, то ли умышленно причислял себя к самой могущественной мафии и этим приучал майора к мысли, что и он в рядах мафии, что иных-то структур власти ныне и нет, и тут уж остается только выбирать, в какой ты мафии желаешь работать.
— Старуха на ладан дышит, — продолжал генерал, — она вот-вот скапустится, и тогда…
Генерал огляделся по сторонам.
— Несметные ценности уплывут за океан в сейфы американских банкиров.
— В музее есть кладовые для хранения ценностей. Там особый учет и режим. Непонятно, почему старуха…
— Есть, есть, все есть. Но старуха пятьдесят пять лет не дремала, к ее рукам столько налипло.
— Мне все-таки невдомек: к музею человек от органов приставлен.
— Ты вообрази механизм. В музей поступает антикварная вещь, и не одна, не две, а целая партия, — из княжеского дома, из сейфа умершего богача, коллекционера. Наконец, доверчивый идиот принес фамильную драгоценность: поместите, мол, в музей, пусть радует глаз посетителей, моих соотечественников. И плывут, и плывут редкие уникальные вещи, иным и цены нет, и все к ней, к главному консультанту, оценщику. Контроль, конечно, есть, но… условный, он создан тем же директором по ее совету, контроль вроде решета с большими дырами, — в них проваливается самое ценное. Вот, скажем, табакерки царей и вельмож. Табакерки золотые, усеяны бриллиантами и другими каменьями, а где они, эти табакерки? Говорят, что одна лишь выставлена напоказ и одна в запасниках, а их было множество.