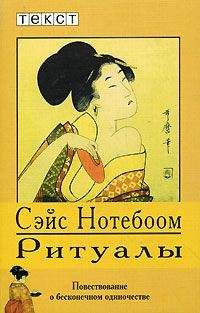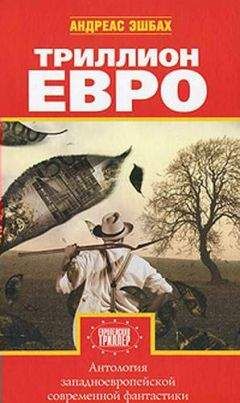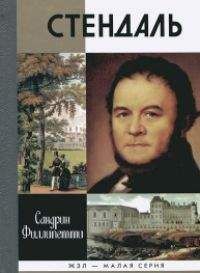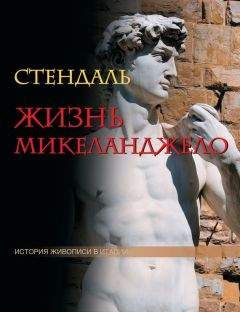Тем не менее под внешней неосведомленностью медленно разгорался пожар беспокойства, отчаяния и злобы. Амстердам начинал потихоньку тлеть, но каждый относил это за счет собственного дурного настроения, тоски, неизбежной женитьбы или безденежья. Никто покуда не облегчил это тяжкое бремя, поведав миру, что недуг поразил в первую очередь само общество, а уж потом некоторых его членов.
«Все более мрачные пробуждения» — под таким девизом Инни жил в ту пору. Когда именно для него наставала ночь, было, как правило, не вполне ясно, но посреди ночи он непременно просыпался, а затем умирал, по крайней мере он так это называл. Известно, что, умирая, человек в считанные секунды успевает «увидеть всю свою жизнь». Так вот, с Инни такое случалось каждую ночь — только он не видел ничего, потому что почти не помнил своей жизни до появления тети Терезы. Перед ним скользила серая пленка, на которой лишь изредка мелькали изображения: маленький или уже постарше, он участвовал в коротких отрывочных сценках, не слишком связных событиях, а то и в довольно длинных предметных композициях, которые каким-то необъяснимым образом задержались на пустом чердаке его памяти, например яйцо на столе в Тилбурге или огромный лиловый член случайного соседа в уборной на Схенккаде в Гааге.
Как он умудрялся при всем при том помнить наизусть стихи, было для него самого загадкой, и нередко ему представлялось, что, наверное, лучше бы выучить всю жизнь наизусть и по крайней мере видеть в ночных повторах последних мгновений мало-мальски связный фильм, а не разрозненные обрывки, в которых нет ни логики, ни смысла, хотя законченная жизнь, казалось бы, вправе ими обладать. Может статься, каждодневная смерть была так чудовищно тосклива именно оттого, что по-настоящему никто вообще не умирал, да и этих сумбурных обрывков тоже никто никогда не увидит. Днем неизменный и неотвратимый пустопорожний круговорот его не тревожил, ведь в конце концов на самом деле смерть не имеет касательства к жизни. Вдобавок он опасался говорить об этом с Зитой и вообще с кем бы то ни было. Зита спала первобытным намибийским сном, и, когда наставал час ночных мук, он высвобождался из ее тесных объятий, шел в другую комнату и плакал, горько, но недолго. Потом, когда он возвращался в постель, она вновь раскрывала объятия, точно руками видела его, и все же казалось, будто раскрывается нечто много большее — райские кущи с их мягкими теплыми лугами, где только что скосили траву и где сладко спят все Инни на свете.
Слабость его памяти словно перекинулась на всех и каждого, ведь, по мнению Инни, ничем другим невозможно было объяснить, что никто, ну совершенно никто не мог позднее рассказать ему, каким было лето шестьдесят третьего года. Когда речь заходила о лете, о любом лете, сам он неизменно представлял себе жаркий день в лесах вокруг дома Арнодда Таадса под Доорном — все затянуто легкой дымкой, душно, вот-вот грянет гроза. Пруды черные, спокойные, готовые отразить что угодно, усталые утки отдыхают в прибрежных камышах, где-то на крыше загородного дома отчаянно вопит павлин, и, быть может, сразу же после этого настает долгожданный конец света. Слегка пахнет гнилью, потому что теперь самоедствует природа. Инни ничего делать не надо. Вот каким виделось Инни лето вообще, а значит, и лето шестьдесят третьего, пока кто-то не заглянул в газетную подшивку и не рассказал ему, что летом шестьдесят третьего без конца лил дождь. Он, конечно, знал, хотя опять-таки с чужих слов, что в тот год был влюблен в барменшу с Футбоогстеег и что итальянец, работавший на кухне гостиницы «Виктория», а на досуге занимавшийся фотографией, сделал фотопортрет Зиты для журнала «Табу», который вышел всего двумя номерами, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы счастье Инни и Зиты пошло прахом, ведь, как бы там ни было, долгая страсть на износ, жадное взаимопоглощение, словно они участвовали в каком-то неистовом пиршестве, долгие, предназначенные для пустой кинопленки амстердамские ночи с переселением плоти и внезапными видениями — все это было счастье, и оно исчезнет и никогда больше не вернется. Никогда.
Бар был длинный и темный, рассчитанный на мелких дельцов и провинциалов, людей скромного достатка, которые опасались ходить к проституткам и были слишком экономны, чтобы содержать подружку; вместо этого они торчали в сумрачном баре, у стойки, разрисованной в шотландскую клетку, и глазели на могучий белый бюст Лиды, расплачиваясь за удовольствие неиссякаемым потоком мятного ликера и содовой. Это и было всему виной — вялый поток зеленой жидкости, исчезавший в ее большом рту, а еще дурацкая прическа, высоченная, в каких-то серебристо-серых разводах, да пышные белые груди, выставленные напоказ так щедро и все же так скупо, ну и то, что она была больше чем на голову выше Инни.
«Внутри я насквозь зеленая», — твердила она, и это тоже возбуждало его. Со времен первой, настоящей Лиды, которую звали вовсе не Лида, а Петра, в жизни Инни перебывало множество Лид, и, не будучи убежденным философом, объяснял он это по-разному. Иногда и впрямь была замешана любовь, но случалось, он представлял себя этаким вампиром, который мог жить, только высасывая «свет» из женщин, прохожих или, как он выражался, неопределенных женственных существ женского пола. Непродолжительные взлеты, перемены, взаимоподталкивание едва ли не безымянных событий пусть ненадолго, но давали Инни ощущение, что он существует. Не то чтобы это ему всегда нравилось, однако порой, когда время тянулось бесконечно, когда невообразимо долгие дни приводили его в замешательство, когда казалось, что минут и часов всегда будет больше, чем воды и воздуха, он, точно бродячий пес, слонялся по улицам, делая вид, что ему невтерпеж трахнуться, а вечером еще глубже, чем всегда, зарывался в объятия Зиты. Но бывали и другие периоды — дни, когда охотник становился добычей, времена, когда вещи не донимали своим навязчивым присутствием и, увидев автомобиль, он не всегда думал «автомобиль», когда дни не висели вокруг пустыми ненаполнимыми блоками. Тогда он в немыслимом возбуждении метался по городу, будто на крыльях летал, и дарил себя каждому, кто притязал на кратковременное владение Инни Винтропом.
Зиты все это не касалось. Пока существует мир, а стало быть, и он сам, Инни твердо решил следовать правилам Зиты, а они были несложны: что бы он ни делал, она этого знать не желала, ибо в противном случае ей придется убить его, что совершенно никому не нужно.
Все произошло внезапно, в тот год, о котором у нас идет речь, в один из ноябрьских дней. Инни продал маленький земельный участок, оставшийся от попавшего под опеку наследства, пообедал с нотариусом в «Устричном баре», отвез Зиту к подруге на Юг и теперь угощал Лиду мятным ликером.
— Сегодня вечером я иду с тобой, — объявил он, рассудив, что по-амстердамски лучше всего «клеиться» именно так.
— Ага, — сказала она, наклонив голову набок, как попугай, которому хочется снова услышать непривычный звук.
Она отхлебнула еще глоток, и, наблюдая, как зеленое пойло исчезает у нее во рту, Инни почувствовал, что откуда-то из пальцев ног медленно наплывает возбуждение. Лида жила на Западе. После ликера его до невозможности возбудила длиннущая лестница к ней в мансарду, а под конец и сама комнатушка с плетеным креслом, растворимым кофе, горшком календулы, кокосовой циновкой и рамкой с портретом отца, этакой лысой Лиды, которая подозрительно таращилась с того света в комнату, чтобы увидеть, кого дочь привела на сей раз. Нагота человека, которого он никогда прежде не видел голым, растрогала Инни. Только подумать, что где-то в безымянном квартале в деревянной клетушке на каком-то там этаже ты в два счета можешь вернуть совершенно посторонних, одетых, прямоходящих людей в самое что ни на есть природное состояние, что незнакомка из эспрессо-бара, совсем недавно листавшая «Элзевир», теперь лежит голая рядом с тобой в постели, которая до того никогда не существовала, хотя и существовала долгие годы, — если и есть действенное средство против смерти, слепоты и рака, так именно это.
Лида была большая, белая, нежная, пышная, и после вполне понятных событий, во время которых она то и дело призывала маму, оба они выглядели как жертвы неудачного полета, потная куча рухнувшей наземь плоти, оба перепачканы серебристой пудрой с ее волос, которые, освободившись от шпилек, укрыли ее до бедер. Несколько минут они так и лежали. Как и предписывали правила, Инни был раздосадован. Пока объятия огромной Лиды по капле сочились в недра его беспамятства, он, по обыкновению, сердито думал о том, что теперь будет. Они разомкнутся, ну, может быть, вымоются, он спустится по длинной лестнице, а она уснет в своей комнатушке и завтра будет снова пить мятный ликер со всякими идиотами, и умрут они каждый сам по себе, на больничной койке, страдая от равнодушия юных медсестер, еще не родившихся на свет.