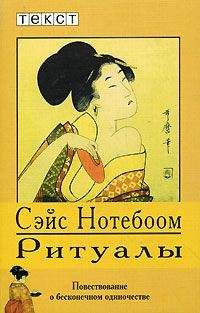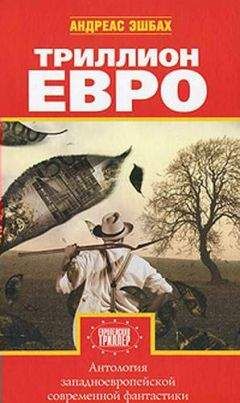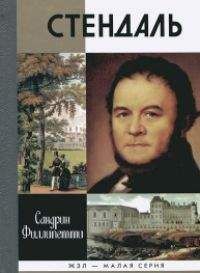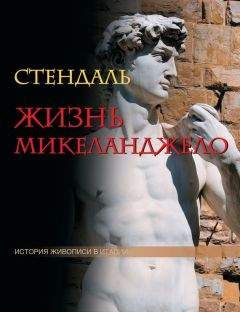Он не глядя пошарил за спиной — перед тем как лечь в постель, видел там пачку «Кабальеро». Когда он приподнялся, Лида тихонько заворчала, а его взгляд вдруг уперся в глаза Зиты. Бумажные глаза, но все-таки ее. Фотография из «Табу», на целый разворот. Ну вот, подумал Инни, я в Помпеях. Сейчас меня захлестнет поток лавы, и я навсегда останусь здесь. Мужчина, склоненный над женщиной. И ведь в невообразимо далеком завтра никому в голову не придет, что она совсем посторонняя; подняв голову, мужчина смотрит на что-то давным-давно незримое. Его охватила печаль. Сотни раз он видел эту фотографию, но теперь казалось, будто за снимком, четырьмя кнопками пришпиленном к коричневым обоям, находилась вселенная, состоящая из одной только Зиты, вселенная, куда ему отныне нет доступа. Но что это? Зеленые глаза холодны, словно вырезаны из непроницаемого камня. Неужели когда-то они смотрели на него с любовью? Губы у нее приоткрыты, будто она собиралась произнести или уже произнесла нечто такое, что навеки покончит с Зитой и Инни, намибийское проклятие, негромкую сокрушительную формулу, которая сотрет их смехотворные имена, наложит на них запрет, сделает непроизносимыми и навеки изгонит его из ее жизни, не только из предстоящего времени — это бы еще куда ни шло, — но и из минувшего, и тогда все, что было, перестанет существовать. Целых восемь лет будут вычеркнуты, и он вместе с ними! Инни все пристальнее вглядывался в бумажное лицо, и с каждой секундой оно все больше менялось, превращаясь в незнакомую, враждебную женскую маску, которая, вне всякого сомнения, видела его — и отвергала, потому что одновременно смотрела на кого-то другого с любовью, предназначенной уже не ему, Инни, но тому единственному, на кого она смотрела, когда был сделан этот снимок, — фотографу.
— Красивая головка у девушки, — сказала Лида, садясь в постели. Он заметил, что и груди у нее теперь в серебре. Повсюду эта дрянь — у него на руках и на груди, у нее на лице, повсюду!
Он встал и оделся, глядя, как в зеркале мелькает отражение его серебряной фигуры.
— Не хочу к тебе привыкать, — сказала Лида, и прозвучало это как пункт повестки дня какого-нибудь собрания. Он махнул рукой в сторону серебряного, вдруг ставшего мокрым от слез пятна ее лица, и вышел наружу, на улицу с безмолвными, притихшими домами, полными спящих людей.
Проехал он прямиком в Босплан и попытался в пруду отмыть руки от серебра, этого внешнего знака своего ухода из жизни Зиты, но безрезультатно, напротив, стало только хуже. Шестой час утра. Природа, где животные друг друга не знают и никто никого не любит, пробуждалась.
Фотограф, подумал он и вспомнил, что впервые встретил Зиту на фотовыставке, она стояла перед собственным портретом. Сначала он увидел этот портрет, а потом ее и никак не мог понять, кто кого отрицает — женщина на фотографии ту, что стояла в зале, или наоборот. Иные фотографии — к примеру, знаменитый портрет двадцатилетней Вирджинии Вулф, тот, где она глядит в сторону, — настолько совершенны, что запечатленное на них живое существо кажется грезой, чем-то созданным специально для фотографирования. Инни осознал это, когда ему захотелось познакомиться с оригиналом портрета, когда просто не мог не заговорить с женщиной, стоявшей перед снимком, и он действительно так и сделал. Фотография висела в темноватом углу, но сразу же привлекла его внимание. Она властно манила к себе. Казалось, это лицо, которое никоим образом не могло принадлежать живому человеку, существовало тысячи лет, совершенно независимое от всего, обособленное, сама гармония.
Он хорошо помнил, что, направляясь к ней, испытывал легкое головокружение. Она отошла от портрета, что упростило ситуацию, и стояла у окна, озаренная мягким светом, одна, с невозмутимой безучастностью человека, который сотворен лишь затем, чтобы, не отдавая себе в этом отчета, быть не таким, как другие, единственным и неповторимым представителем совсем иного племени, а именно — ею. Так он вошел в ее мир, но не сумел стать его частью, причинил зло, упиваясь совершенной гармонией Зиты, и теперь понесет заслуженное наказание.
Мало-помалу светало. Он вздрогнул от холода. Большая цапля сделала над ним круг и, хлопая крыльями, опустилась в камыши. Потом опять все замерло, и Инни почудилось, будто сам он тоже впервые остановился, будто после первой встречи с Зитой никогда не задерживался, только шел, шел, и этот долгий переход, это безостановочное движение привело его сюда, чтобы он стоял у здешнего пруда, с серебряными разводами на руках, да, наверно, и на лице. Он решил не смывать их, а пойти прямо домой.
Если все, что он думал, правда, он должен понести наказание, а тогда лучше уж сразу. Все теперь утратило прочность, стало хаосом, а хаоса он страшился в жизни больше всего, хаоса, куда будет отброшен, если она оставит его.
Вышло не так, как он думал. Конечно, Зита влюбилась в фотографа и, конечно, спала с ним. Он был у нее первым мужчиной с тех пор, как она встретила Инни, а Инни был вообще первым мужчиной в ее жизни. С неколебимой уверенностью человека, который живет по заповедям, она сознавала, что должна теперь оставить Инни, а поскольку относилась к нему хорошо и знала о его страхе перед хаосом, огорчалась, но ведь ничего не поделаешь. Все произойдет как в Намибии — беззвучно, быстро и без единой трещины в кристалле. Когда он вошел, Зита поцеловала его, сказала, что найдет чем отмыть это странное серебро, помогла ему умыться, обняла, а потом взяла с собой в постель. Никогда еще он не любил ее так; если б мог, он проник бы в нее и головой, и всем своим существом, без остатка, и навсегда остался там — но когда все миновало и она спала, как новорожденная сестра Тутанхамона, до ужаса тихо, словно от веку не дышала, словно и не была вот только что одержимой, кричащей безумицей, — тогда он уразумел, что о своей участи ничего теперь не знает.
Зиты здесь не было, как все эти годы не было его. Инни встал, принял таблетку снотворного из своих запасов. Но когда около полудня проснулся, Зита была такая же, как в это утро, как в прошлом и позапрошлом году, как в первый раз, — топь совершенства, где утонет всякий, кто дерзнет зайти слишком далеко.
Шли недели. Зита виделась со своим итальянцем, спала с ним, позволяла себя фотографировать, и каждый раз, когда он ее снимал, в амстердамском воздухе рассыпалась крупица Инни, новая любовь была крематорием для старой, оттого-то однажды утром, когда Инни пересекал Конингсплейн, в глаз ему попала частичка пепла, которая никак не хотела выйти вон, пока Зита не слизнула ее кончиком языка, попутно заметив, что он плохо выглядит.
Было это в полдень, в пятницу, и происходящее едва ли имело касательство к итальянцам и любви, скорее к подспудному, тайно дошедшему до нас из глубины веков неписаному намибийскому закону, согласно которому один раз в восемь лет, в пятничный полдень, наступает час расплаты, и уж тогда платить надо сполна. Наверно, в такие полудни в той стране созывали мужчин, чтобы предать их страшной смерти, но, как бывало со многими древними обычаями, в диаспоре самые острые грани притупились. Инни отправили в изгнание, только он знать не знал, что именно в этот день. Зита взяла расчет и больше не имела к нему отношения. В этот день она уедет в Италию с итальянцем, у которого, как и у нее, нет денег. Что их ждет, она не знала и, откровенно говоря, предчувствовала, что и там ей делать нечего. Просто так должно случиться, вот и все.
После того, как она слизнула пепел, Инни сел за письменный стол. Через полтора часа нужно сдать в «Пороль» гороскоп для субботнего приложения. Он полистал «Мари Клер», «Харперс базар», «Нову», книжки по астрологии, что-то списал, что-то сочинил — словом, озаботился участью других людей, ведь читать-то все это им. Добравшись до собственного знака, до Льва, и прочтя в «Харперс», что все у него будет в порядке, а в «Эль» — что дело плохо, он отложил ручку и сказал Зите, которая устроилась на кушетке у окна, чтобы в последний раз полюбоваться на Принсенграхт:
— Ну почему нельзя написать: уважаемый Рак, вы заболееете раком; или: Лев, сегодня с вами случится нечто ужасное — вас бросит жена, и вы покончите самоубийством?
Зита знала, что он думает о своей тетке и об Арнолде Таадсе, и ее зеленые глаза потемнели, но он ничего не заметил и хихикнул. Она повернула голову, посмотрела на него. За столом сидел и смеялся совершенно чужой человек. Она расхохоталась. Инни встал, подошел к ней. Погладил по волосам, хотел лечь рядом.
— Нет, — сказала она, но само по себе это ничего не значило. Это могло быть частью игры, которой она вольно или невольно хотела его поддразнить или в которой он должен был кое-что ей рассказать. — На сей раз придется платить, — продолжала она.
Что ж, и это не новость. Он чувствовал, как внутри поднимается огромное желание.
— Сколько? — спросил он.
— Пять тысяч гульденов.