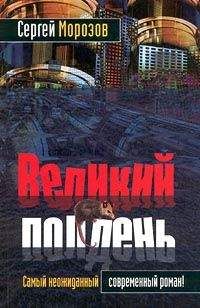— Вы только посмотрите! — воскликнул я, кивая на реку.
Мы проносились мимо военного оркестра. Дирижер, косясь одним глазом на Папины сани, взмахнул жезлом с кистями, и румяные музыканты в овчинных шапках-ушанках и белых шерстяных перчатках, вздернув повыше медные, начищенные докрасна инструменты, с поразительной слаженностью заиграли задушевный русский марш. От этого глубокого двудольного ритма сердце сладко заекало. Мне показалось, что сами звуки старинной мелодии, то звонкие и прозрачные до хрустальности, то приглушенные и мягкие, словно бархатные, обладают волшебной силой, которая приподняла нас над землей. Кони уже не достают титановыми подковами льда, а стальные полозья саней скользят по воздуху.
Я перегнулся через задний борт и восхитился льдом Москва-реки, идеально отшлифованным накануне. Зеркально-черная полоса, служившая дорогой для кортежа и ограниченная с обеих сторон аккуратными сугробами, плавно, как будто вычерченная по лекалу, тянулась точно по середине реки и была похожа на свеже промытую темную полынью. В полутораметровой зеленоватой толще льда, подсвечиваемого изнутри подводными прожекторами, отчетливо сверкали каждый воздушный пузырек или травинка, каждая вмерзшая плотвица или ершик, а подо льдом перемещались едва заметные черные тени. Рыб такой величины в реке конечно не водилось, а стало быть, как подсказывала логика, то были аквалангисты из службы безопасности.
Когда кортеж, в котором сани были выстроены попарно, миновал праздничные ледяные арки, и звуки духового оркестра вкупе с колокольным звоном стали удаляться и слабеть, раздался оглушительный, раскатистый треск, и уши слегка заложило от ударной волны. Окружающее пространство озарилось сильнейшей вспышкой. Как будто в небе лопнула огромная лампочка или мгновенно засветили гигантский негатив. Это ударил первый залп праздничного предновогоднего салюта. Черные дома вдоль набережных стали ярко-белыми, а освещенные окна и уличные фонари мгновенно померкли. Высоко в небе повисли сверкающие гроздья, но за пределами светового конуса по-прежнему стояла непроглядная ночная тьма.
Гремели-переливались бубенцы. Ноздря в ноздрю с нами летел а тройка с ребятишками. Держась друг за друга и за края саней, дети, как завороженные, смотрели назад. Кортеж уже отъехал на достаточное расстояние, чтобы в полном своем блеске, в обрамлении огненных цветов фейерверка, явилось взору главное чудо — чудо из чудес, чистый перл градостроительства, словно воплощенное апостольское видение — моя сокровенная мечта и дерзновенный проект и, конечно, любимейшее мое творение.
Девушки перестали хихикать и, разгоряченные, прижались ко мне с обеих сторон. Кажется, я чувствовал, как колотятся их сердца. По тонким, словно отчеканенным на монетах, профилям гуляли отсветы зарниц. Распущенные невесомые волосы развевались и задевали мое лицо.
— Какой ты все-таки молодец, Серж! — воскликнула Майя. — До сих пор не налюбуюсь этой красотой.
— Я и сам не налюбуюсь, — признался я.
— Вы такой счастливый! — тихо сказала Ольга-Альга, которая до сих пор упорно говорила мне «вы». Как, впрочем, и Папе.
— Да, да, он очень, очень счастливый наш Серж! — с жаром подхватила Майя.
Сани пролетели под большим мостом. Теперь кортеж перестроился, растянулся длинной цепью вдоль речной излучины, и пейзаж предстал перед нами в новом, так сказать, широкоформатном ракурсе.
А ведь каких-нибудь пять лет тому назад такой же поздней морозной ночью я проезжал по набережной Москва-реки, и мне вдруг представилось, вернее, пригрезилось нечто подобное — удивительный город, сказочно обновленная Москва… Новый город с висячими садами и искристыми водопадами среди трескучей русской зимы и в самом деле как бы нисходил с неба на ночные берега Москва-реки. Его многие ярусы, стены и основания сияли, словно чистое золото, а сам он был подобен прозрачному стеклу. В нем было все что и прежде — Кремль, Арбат, бульвары, переулки, но только в абсолютно новом качестве.
Прекрасное видение во всех мелочах запечатлелось у меня в памяти. Ночами я мечтал. Подобно героине романа, которая, ощутив себя беременной, мечтала, какой у нее будет красивенький и умненький ребеночек, я на все лады представлял в своем воображении, какой я создам великолепный архитектурный проект. Потом, конечно, были бессонные ночи за компьютером, долгие труды, но мне удалось без изъяна воспроизвести сон в виде чертежей и подробнейшего макета, того самого, которым до сих пор с таким увлечением играл Александр, а теперь к нему присоединился еще и Косточка.
И что примечательно, с самого начала за проектом закрепилось название «Москва». За три с небольшим года (фантастически короткий срок!) грандиозный архитектурный комплекс вырос на искусственно созданной стрелке Москва-реки между старым руслом и несколькими специально проложенными обводными каналами в районе Кутузовского проспекта, сырых пресненских пустырей и развалин филевских портовых пакгаузов. Для специальных гидротехнических целей было даже заблокировано и затоплено несколько центральных станций метрополитена. Ресурсы и средства на строительство были брошены колоссальные. Ради этого закрыли или сняли с финансирования десятки проектов, строящихся объектов и даже один «проект века».
Едва возвели и заселили первую очередь комплекса, а примыкающие сады открыли для гулянья, публика тут же стала называть центр столицы Москвой без всяких кавычек, а все, что вне его, — просто Городом. Так и говорили: «Что слышно на Москве?» или «Что новенького в Городе?..» Особым шиком среди зажиточных столичных обывателей считалось потолкаться вечером в стеклянных залах контрольно-пропускного терминала, похожего на огромный аквариум, поглазеть на бомонд, выпить чашечку пенистого черного кофе в нарочито безыскусном, но ужасно дорогом кафетерии.
В канун нового года в Москве вручали государственные премии. По такому случаю из загородной резиденции пожаловал сам Его Высокопревосходительство, в прошлом большой радетель и добрый покровитель русской столицы. Раньше мне не доводилось лицезреть престарелого правителя воочию. Как автор уникальной градостроительной идеи я, конечно, был в числе лауреатов. О моем проекте говорили, что это новое слово в архитектуре, и, в частности, своеобразное продолжение грандиозной традиции сталинских высоток, олицетворение нео-имперской идеи, нео-имперского духа и тому подобное. Я принял из трясущихся ручек Его Высокопревосходительства диплом, денежный чек на символическую сумму, как раз необходимую для того, чтобы мы отчасти расплатились с долгами, а также золотой крест почетного гражданина Москвы. Правитель был хил и лыс. Отсутствовали даже брови и ресницы, как у древнего жреца, хотя верховным жрецом его, кажется, до сих пор еще не величали. Увы, он находился в глубоком старческом маразме. Его дряблые бесцветные губы производили лишь невнятный лепет. Потреплет лауреата по плечу — и на том спасибо. В общем, мероприятие сильно отдавало рутиной. Кстати, это была не первая премия, которую мне вручали за Москву, но получить награду из рук первого лица в государстве было все же лестно.
Папа тоже поздравил меня прилюдно. Правда, без особой сердечности. Я даже ощутил в его тоне странный холодок, словно я его чем-то раздражал. Я и прежде замечал, что на Папу, случается, находит какая-то мрачная раздражительность, а потому из деликатности решил как бы ничего не заметить. Впрочем, я все-таки не удержался и в ответном слове вскользь, будто бы в шутку намекнул, что неплохо бы наконец и для меня, почетного-де гражданина, изыскать местечко в Москве. Дескать, даже странно, что в соответствующем уставе это положение не прописано. Папа нахмурился и промолчал. Присутствующие, однако, не особенно прислушивались и вообще не поняли, о чем я завел речь.
Я взглянул на соседние сани. Дети по-прежнему, как завороженные, не сводили глаз с удалявшейся Москвы. Если уж говорить о наградах, то восторг в детских глазах был для меня дороже всех званий и премий вместе взятых.
Что же касается мечты заиметь в Москве хотя бы крошечную студию, самые скромные апартаменты, то уж я-то, кажется, был вправе на это рассчитывать. Иначе, что же это получается — сапожник без сапог? Почетный я гражданин или нет?.. Тут все, конечно, зависело от Папы. Своей-то любимице Майе он уже пообещал устроить гнездышко (он почему-то называл его «офисом»), и, конечно, в самом шикарном, Западном Луче. Даже не побоялся предоставить ей самостоятельность, а ведь она совсем еще девчонка!.. Наверное, во мне говорила заурядная ревность. Что ж, подождем. Видно, всему свое время.
Кроме Александра, Косточки и его младшей сестрички Зизи, в соседних санях ехали дети людей нашего круга. Вся знакомая компания ребятишек — тех, с кем Косточка водил дружбу. Насколько я понимал, подобно Папе, мальчик уже завел в отношениях с приятелями определенную иерархию. У него были свои особые правила, свои представления о собственной компании, в которой он был безусловным лидером. Но ребятишки тянулись к нему вовсе не потому, что он — сын Папы. Безусловно, Косточка был интересным мальчиком, чрезвычайно живым, умненьким, с фантазией. И, кажется, не злым. Я был рад, что у маленького Александра такой товарищ и покровитель.