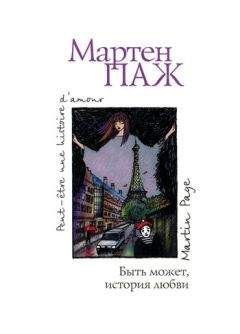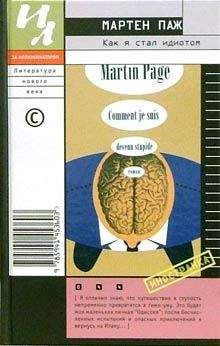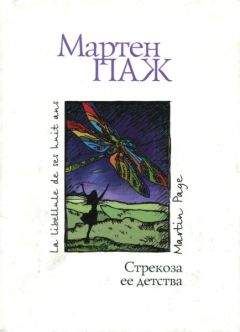— Так, — сказала она.
Как обычно, ее лицо почти ничего не выражало. Виргилий уже научился различать оттенки этого безразличия — то любопытное, то холодное, то утешительное. Кроме того, доктор Зеткин была виртуозом произнесения «так». Слово «так» доминировало в ее лексиконе. Иногда она прибегала и к другим словам, например, она говорила: «хорошо», «как дела?», «да», «вы забыли оплатить консультацию». Эта женщина общалась с людьми и лечила больных, имея в запасе всего лишь десяток выражений, которые тратила с большой оглядкой.
Виргилий выдернул из розетки шнур от настольной лампы, подключил автоответчик и нажал на клавишу воспроизведения. Голос зазвучал.
— Видимо, эта женщина вас бросила, — сказала врач.
— Не совсем так.
— Но она выразилась достаточно ясно. Вы не хотите принять ее решения.
Доктор Зеткин полагала, что попала в точку. В конце концов, они оба хорошо знали, что происходит в личной жизни Виргилия: ничего удивительного, если он получил от ворот поворот. Это совершенно естественно — как приливы и отливы или миграция диких гусей. Виргилий почувствовал себя почти счастливым оттого, что в кое-то веки имеет все основания возразить ей.
— Между нами ничего не было. Я вообще ее не знаю.
Доктор Зеткин осторожно сняла очки и начала протирать стекла. Кажется, этот случай ее зацепил. После целого дня возни с банальными неврозами будешь рад любой игре воображения. Она снова надела очки и недоуменно развела руками.
— Что вы сами об этом думаете?
— Я не хочу думать, я хочу понять.
— Ах вот как?
Здесь, у доктора Виргилий чувствовал себя в безопасности. На полках книжного шкафа теснились основополагающие труды по психоанализу; над письменным столом висела фотография 1938 года, на которой Фрейд указывал пальцем в окно поезда, прибывающего в Париж; на стене в рамочке — репродукция первой страницы его рукописи, посвященной исследованию «Градивы» Йенсена; на столе навалены специальные журналы на французском и испанском языках. Виргилию нравилось думать, что духи, заточенные во всех этих святынях, оберегают помещение. Тут он согласился бы даже на трепанацию.
— Ошибки тут нет. Она обращается ко мне по имени.
Виргилия наделили редким именем, в этом он убедился, еще играя в школьном дворе.
— Может быть, это шутка, — предположил он.
— А почему женщина, с которой вы даже не знакомы, вдруг решила так подшутить над вами?
Зазвонил сотовый телефон Виргилия. Он забыл отключить его, целиком поглощенный мыслями о происшедшем. Поскольку установленные правила и так уже были безбожно попраны, он ответил. Это была Фостин, давняя приятельница.
— Фостин, я не могу сейчас говорить, я у своего психоаналитика. Что? Я перезвоню.
Он прервал связь. Дело все больше запутывалось. Виргилий уставился на фотографию Фрейда. Ладони стали влажными, уши заложило, во рту появился привкус железа. Он задыхался. Ему казалось, что он в эпицентре катастрофы, что он стал жертвой каких-то неведомых сил.
— Я уже рассказывал Вам о Фостин?
— Одна из тех женщин, в которых вы влюблялись и с которыми вы теперь в дружеских отношениях?
Виргилий не знал, почему так получалось, но его дружба с женщинами неизменно начиналась с влюбленности.
— Она только что узнала, что Клара меня бросила. Хочет со мной поужинать, поддержать.
— Подумайте хорошенько: вы уверены, что никогда не встречались с Кларой?
Доктор наблюдала за Виргилием, прикрыв глаза. Неужели прорвалась тонкая грань между явью и вымыслом? Виргилий сконцентрировался на дыхательном упражнении, которому его научили на занятиях йогой.
И тут он вспомнил. Это было месяц назад, на вечеринке у Мод. По выходным Мод получала в свое распоряжение огромную квартиру родителей и собирала гостей. Главным достоинством этих сборищ был шум, заглушавший банальности, которыми пытались обмениваться многочисленные приглашенные. Виргилий много выпил. Фостин потянула его за рукав: ей непременно хотелось представить ему одну девушку. Он снова увидел, как его приятельница произносит имя девушки, то и дело встряхивая высокий бокал с коктейлем: Клара. Однако Виргилий не помнил ни лица Клары, ни того, о чем они говорили. В любом случае продолжения не последовало. Виргилий рассказал доктору Зеткину об этом эпизоде.
— Может быть, вы поцеловали Клару, и она неправильно вас поняла?
— Я могу взять женщину за руку. Особенно, когда выпью. А коли уж дело дойдет до поцелуев, я ими осыплю все лицо. Вы считаете, я мог закрутить с ней роман и сам того не заметить?
— Вы не сумасшедший.
Это утверждение сразило Виргилия наповал. Внезапно, без предисловий, психоаналитик, женщина, с которой он виделся три раза в неделю на протяжении вот уже пяти лет, избавила его от одного из страхов.
— Вы меня успокаиваете?
— Вы мне платите за то, чтобы я была объективной.
Телефон Виргилия снова зазвонил. Это была Надя. Разговор не продлился долго: Фостин рассказала ей о разрыве. Раздался сигнал, предупреждающий, что кто-то пытается дозвониться до него. Виргилий переключился на другую линию. Звонила опять Фостин. Он пообещал обеим, что перезвонит позже. Доктор Зеткин делала какие-то пометки в блокноте.
— Мне нехорошо, — сказал Виргилий, выключив телефон.
К горлу подступала тошнота, он был на грани обморока. Что-то с ним не так, но что — непонятно. Им овладело предчувствие, что происходящие события очень серьезны и полностью перевернут его жизнь.
— Вам надо прилечь.
— Это ничего не изменит.
— А все и нельзя изменить.
Ну конечно, спешить некуда. Доктор Зеткин не сомневалась, что со временем все прояснится само собой. Виргилий тоже ждал развития событий, но не умел сидеть сложа руки. Доктор Зеткин постукивала перьевой ручкой по краю письменного стола.
— Не знаю, насколько это все связано, — заговорил Виргилий, — но в последнее время у меня бывают головокружения. И тошнота.
Он всегда стремился до конца разобраться в ситуации. А если не мог, то прятался в свое любимое убежище — болезнь.
— Вы действительно полагаете, что больны?
— Я пытаюсь понять, что происходит.
— Правда?
Кровь застыла у него в жилах. Перед глазами плыли яркие пятна.
— Вы могли бы направить меня на какие-нибудь обследования, — сказал он, с трудом сглотнув, — просто на всякий случай…
— Ну, если вы настаиваете.
Доктор Зеткин исписала все направление, так что стало понятно, что речь не шла о «каких-нибудь обследованиях». Среди талантов Виргилия числилось и редкое умение читать слово «томография» верх ногами.
— Томография? — спросил Виргилий, вцепившись в край стола.
— Не волнуйтесь.
Вне всяких сомнений, более волнующих слов во французском языке просто не найти. Виргилий взглянул в окно. Петит-Экюри погрузилась в сумерки. У него не было ни малейшего желания уходить. Ему хотелось остаться в этой комнате, лечь на диван и закутаться в плед. Доктор Зеткин открыла дверь. Виргилий скрестил руки на груди и вышел. Он выбирал наиболее освещенные и оживленные улочки; он шел по Фобур-Сен-Дени мимо закусочных, радуясь огням витрин и запахам жарящихся кебабов. Теперь он ценил мельчайшие проявления жизни на вес золота.
Обзвонив всех знакомых медиков, Виргилий сумел договориться, что его примут в отделении рентгенологии уже на следующий день.
В результате обследования он не сомневался. Женщина бросила его, однако роман с ней изгладился из его памяти. Следовательно, речь шла о неврологическом заболевании. Видимо, был поврежден центр памяти, и болезнь, прогрессируя, стирала целые куски жизни. Иногда он сосредоточенно вслушивался в себя, и тогда ему казалось, что он слышит свист косы, разящей направо и налево. Конечно, медицина не стоит на месте. Но нет смысла тешить себя пустыми иллюзиями.
Я умру, подумал Виргилий. Он снова и снова произносил эту фразу вслух. Он был уверен, что конец близок. По спине пробежал холодок. Он боялся смерти — не потому, что его не станет, он давно считал себя чужим в этом мире, — но потому, что смерть уравняет его со всеми. Труп лишен индивидуальности. Виргилий боялся смерти не из-за инстинкта самосохранения, а из чувства противоречия.
Он притушил свет и устроился на диване. Гладил пальцами неровности, шероховатости и проплешины ткани, контуры дыры, прожженной сигаретой. В поисках новых знаний и ощущений он ощупывал окружающие предметы и воображал себя Элен Келлер,[1] читающей шрифт Брайля. В этой квартире он прожил семь лет. Она приспособилась к нему, как приспосабливается обувь к ноге. Но происходит ли нечто подобное с миром? И когда мы умрем, сохранит ли материя следы нашего бытия? Сохранятся ли на земле атомы наших мыслей? Что ж, — думал Виргилий, — квартира никуда не денется, друзья будут жить, как жили, а мои книги и диски послужат кому-нибудь другому.