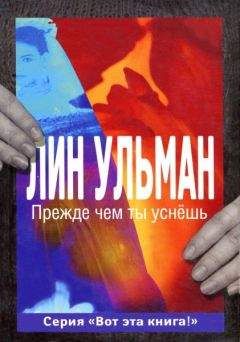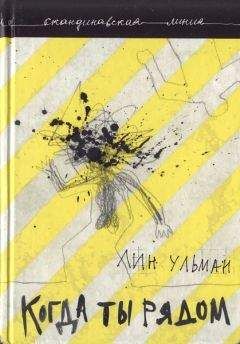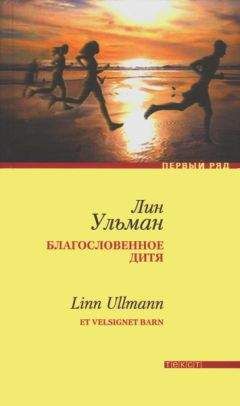Анни, что называется, неотразимая женщина. Мужчины часто говорят ей об этом. Анни не стала знаменитостью, и овациями ее не встречали, Федерико Феллини не приехал за ней в Тронхейм, а с возвращением в Америку пришлось подождать. И все-таки она осталась неотразимой. Несчастной. Горькой. Пьяной. Совершенно безумной. Но неотразимой. Этого у нее не отнимешь.
Помню один случай, дело было давным-давно. Анни, Жюли, я и новый приятель Анни Златко Драгович из Югославии ехали на поезде в Загреб. Златко Драгович был первым мужчиной Анни с тех пор, как от нас ушел папа. Были летние каникулы. Поезд стучал колесами, других пассажиров в купе не было. Златко Драгович произнес своим низким бархатным голосом на ломаном английском: «Вы только посмотрите на свою маму в этих лучах! Посмотрите на свою маму. Карин! Жюли! Посмотрите на свою маму! Какие глаза, боже мой, какие глаза. Вы когда-нибудь видели такие глаза?»
Он был так тронут, что тихо заплакал.
Мы с Жюли чуть не упали.
Сладко потянувшись, Анни взглянула на нас. «Ну-ка посмотрите на мои глаза! Вы ведь знаете, что он прав. Я чудо». Разве можно променять такую маму на другую!
Анни стоит на лестнице возле церкви, встречая гостей, солнце светит на ее лицо, на густые светло-рыжие волосы, которые она собрала наверх, заколов их блестящей золотой пряжкой, солнце светит на темно-зеленые туфли с высокими каблуками, под которыми похрустывают камешки.
«Слушай, Карин, — говорит она, хватая меня за руку, прежде чем я успеваю проскользнуть в темную, прохладную церковь. — Помоги мне, — говорит она. — Постой со мной немножко, будем встречать гостей. Нет, вы только посмотрите! Кто к нам пожаловал!» — громко кричит она, показывая на тетю Эдель и дядю Фрица. Она не отпускает мою руку — еще непонятно, кто из нас пьянее, хотя не думаю, что это заметно со стороны.
От Анни я научилась трем вещам. Она объяснила мне, что одни играют свои роли старательно, а другие — небрежно. «Ты должна научиться играть свои роли старательно», — любила повторять Анни.
Это первое.
Второе правило она объяснила мне, когда я — еще совсем маленькая, лет семи-восьми — очень страдала. Анни сказала: «Никогда не показывай им, что тебе плохо. Не давай им почувствовать превосходство».
Мои страдания начались с того, что мальчик из нашего класса обещал поцеловать меня, если я съем дождевого червя. Он держал его в руке — длинный, узкий, серый, скользкий червяк извивался у него между пальцами, тогда я подумала, что червяк отвратителен. Но я сказала: «Хорошо, я его съем», и он положил червяка мне на язык. Червяк лежал во рту совершенно неподвижно; надкусив его, я почувствовала, как он мягко и почти покорно разделился на две части. У меня внутри все передернулось, лоб и ладони вспотели.
«Жуй, жуй, давай, — сказал мальчик, с интересом наблюдавший за моей реакцией. Мы сидели на корточках за кустом. — Не вздумай глотать. А то не считается», — прибавил он.
Я смотрела на мальчика и думала, что готова на все, лишь бы поцеловать его.
Я жевала червяка. Жевала тщательно. Не раскрывая рта. Меня не стошнило. Я свое слово сдержала. Когда червяк превратился в кашицу, я раскрыла рот и спросила: «Ну что, достаточно?» Мальчик заглянул туда и сказал: «Нормально, можешь глотать». И я проглотила. Затем снова раскрыла рот — показать, что там пусто.
— Теперь поцелуемся? — спросила я.
— Да пошла ты, — ответил мальчик. — Стану я целовать дуру, которая ест дождевых червей!
Я проплакала несколько дней. Я плакала, потому что мальчик не захотел меня целовать. Я плакала, потому что меня обманули. Потому что у меня не хватило сил и мужества дать сдачи.
Я проплакала несколько дней и ночей, и тогда Анни сказала: «Никогда не показывай им, что тебе плохо. Не давай им почувствовать превосходство».
Это второе.
Третье — это фраза, первоначально принадлежавшая бабушке, но Анни сделала ее своим жизненным кредо. «Никогда не оглядывайся назад, забудь то, что было, и иди дальше», — любила говорить бабушка. Впервые я услышала эту фразу, когда ушел папа и бабушка поселилась у нас на улице Якоба Аалса. Бабушка, этот крошечный титан, встала прямо посреди гостиной и произнесла с бесспорным драматическим талантом: «Никогда не оглядывайся назад, забудь то, что было, и иди дальше».
— Ни за что в жизни, — сказала Анни, вставая с постели несколько дней спустя. — Ни за что в жизни я не стану больше ни секунды убиваться из-за этого мужчины, из-за этой чертовой посредственности, из-за этой потрепанной вонючей дряни, я никогда не была с ним счастлива, крысиное отродье, черт тебя побери, — сказала она и высморкалась.
— Смотрите, — сказала бабушка, кивая на Анни. — Хороший солдат назад не оглядывается.
— Но ведь Анни не солдат, — сказала я.
— Еще какой солдат, — ответила бабушка.
Жюли ничего этого не слышала, Жюли сидела в своей комнате на стуле у окна и высматривала папину белую «мазду». Бабушке ничего не оставалось, кроме как погладить ее по голове и сказать: «Он любит тебя, как раньше, Жюли, он тебя любит».
Это третье.
— Нет, вы только посмотрите, кто к нам пожаловал, — говорит Анни. — Да это же дядя Фриц и тетя Эдель! Кого я вижу, дядя Фриц и тетя Эдель! — Анни отпускает мою руку, так что теперь я могу поздороваться с ними по всем правилам, как она и хотела. Здравствуйте, здравствуйте, как вы прекрасно выглядите, тетя Эдель, ну что вы, спасибо, а вы, дядя Фриц, как поживаете? Как поживаете, говорю. Как поживаете, дядя Фриц?! Нет, невесты я пока не видела. Жюли с папой хотят побыть часок наедине перед свадьбой. Он хочет дать ей несколько полезных советов относительно супружеской жизни, прежде чем эта жизнь пойдет наперекосяк.
Дядя Фриц — это сын тети Эдель. Не знаю, с чего их стали называть «дядя» и «тетя», но по какой-то линии мы с ними состоим в родстве. Эдель ухаживает за сыном с самого рождения, уже пятьдесят четыре года; они живут в трехкомнатной квартире на улице Шёнинг в Майорштюа недалеко от дома Анни; отпуск они проводят на Средиземном море; они держат небольшую пекарню, а готовят на улице Шёнинг. Эдель печет торты, это лучшие торты в городе, она испекла свадебный торт с кремом, восьмиэтажный торт, такой же она испекла на свадьбу Анни двадцать лет назад. В обязанности дяди Фрица входит развозить торты покупателям. Когда дяде Фрицу исполнилось тридцать семь, он переехал в отдельную квартиру, отказался развозить торты и объяснил матери, что ему пора устраивать собственную жизнь.
Через восемь дней он вернулся обратно к Эдель.
Солнце припекает голову и щеки. За столом я буду сидеть рядом с дядей Фрицем. Анни не решается посадить туда кого-нибудь еще — случалось, дядя Фриц блевал без предупреждения на обедах в семейном кругу. Год назад его стошнило прямо на Анни во время бабушкиных похорон. Анни держалась молодцом. Хуже было в сочельник, три года назад. Он заблевал весь праздничный стол, забрызгал нас всех; такого снимка в семейном альбоме тети Эдель нет: длинный белый стол, вытянутые руки, разверстые обороняющиеся ладони в попытке защититься от этой дряни: спасите, помогите, только бы на меня не попало, прекратите! Бледные лица вокруг накрытого стола, зажмурившиеся глаза. Омерзение, такого безмерного омерзения за праздничным столом нет даже в несчастнейшей из семей, а наша семья никогда не была особенно несчастливой, но ведь нас было много. Несчастная или нет, кто знает? Того и другого понемножку. Хотя с уверенностью могу сказать, что нас было много.
* * *
Меня зовут Карин. Я родилась летом 1970-го в больнице Акер в Осло. Анни говорит, что рожать меня было не так уж и больно, но для видимости она опрокинула на пол стакан воды и покричала. Тогда врач наклонился к ней и прошептал: «Ну будет, будет». Жюли появилась на свет тремя годами раньше. Мне поведали, что рожать ее было значительно сложнее, акушерка стонала, Анни держалась мужественно. Сначала Жюли просунула ноги — акушерка никогда не встречала новорожденных с такими большими ногами. Тельце у Жюли было маленькое и синее, и казалось, что это не все тело, а только его часть. Зато ноги были необыкновенно большие и гладкие, и совсем не морщинистые, как у большинства младенцев, это были красивые ноги, похожие на головы лососей. Но по сравнению с остальным телом они выглядели несуразно. Анни знала, что ноги у Жюли несуразные, и каждый раз, когда одевала ее, старалась на них не смотреть.
Анни любила своих детей. «Я люблю своих детей», — часто повторяла она. Так ее воспитали: мать должна любить своих детей. Ей нравилось говорить это вслух, часто безо всякого повода, всем кому не лень: «Я люблю моих детей». Бабушка тоже любила своих детей, она любила свою дочь Анни и свою дочь Элсе, которая живет в Висконсине. Нет никаких сомнений, что прабабушка любила нашу бабушку, так же как бабушка любила нашу маму, так, как мама любит нас.