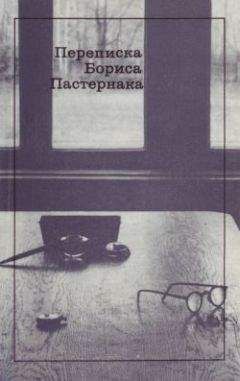то, что уже быльём поросло на черном холме, — разрыть
и выкопать городище, где Лихо спит на покое.
И за все он готов платить — за костюм, за грим,
чтоб сошлись дебет с кредитом, чтобы — гора с горою,
чтоб он вышел как Главный Герой и к нему, как в Рим,
ринулись все дороги, склонилось небо сырое.
…Пусть же все это обретает смысл под пером писца.
Безымянные духи получат имя, пространство ахнет,
а интрига, начинающаяся с крыльца,
вдруг в такую ударится метафизику, так шарахнет! —
что безделкой покажется авторский гонорар,
губернаторство с депутатством — мушиным бегом,
ибо все уже — тлеет, дымится, горит и пахнет…
“Пожар! Пожар!” —
так, наверно, закончится эта книга и — первым снегом.
Пространство и время
1
Спрашиваешь: — Когда?
— Где-то на той неделе.
(Словно бы чуть поодаль — на пне хромом.)
— Где-то в эпоху Грозного…
(Словно у дальней ели.)
— Где-то в Смутное время…
(Словно за тем холмом.)
Густо заварено днями пространство. Битком набито:
не протолкнуться, не вклиниться, чтобы не задеть, — в упор
то пролетарий с булыжником глянет темно, сердито,
то зрачком помавает цепкий тушинский вор.
Плотно заселено эпохами всхолмие. Крепко сжато
медленными веками — впритык и заподлицо
время покрыло землю…
— Где-то веке в десятом…
(То ли в сарай запихнули, то ль в сундук под крыльцо.)
Только себя окинешь оком довольным, гордо
голову вскинешь, твердо встанешь на землю, ан —
турки уже в Царьграде,
а под Москвою — орды,
моавитяне — в сердце и лупят в свой барабан.
И коль суждено увидеться нам еще до ухода,
то наша встреча назначена какой-нибудь век назад…
— Где-нибудь через год,
где-то через три года.
Там еще облако чёрное, как пиратский фрегат.
2
Где-то лет двадцать назад, при царе Горохе, —
это за той горой, которая родила мышь
и на которую махом одним взлетаешь на вдохе, вздохе,
и падаешь, как во сне, и летишь, летишь…
То есть попросту — в тридесятом царстве, под топот конский,
такой хмельной подавали мед на пиру,
что всех повязали спящими, увели в плен Вавилонский,
и они лишь сейчас очухались на хлестком чужом ветру.
Глядят, продирая глаза: пески, песии мухи,
тарабарские песни, змеи, пронырливые хорьки
и все — одни старики. Одни старики и старухи
с немолодыми детьми. Старухи да старики.
3
Спрашиваешь: — Когда?
— Где-то в районе лета,
где-то около мая, где-то в седьмом часу… —
И вот нас туда несет, на стыках дрожа, карета,
и конь коренной летит и стелется на весу.
Так странствуем мы — то в Рим эпохи упадка, пены,
то в Ерусалим страстной, спускающийся с горы.
И преображается время в пространство, возводит стены
и вновь собирает камни, раскидывает шатры.
Тут что-то царица Савская высматривает на небе,
загадывает, зрачок вперяет — хоть плачь, хоть вынь:
— Когда же увижу вновь возлюбленного моего?
Но жребий
“Где-нибудь после смерти” — гласит ей. Аминь. Аминь.
Портрет
Всё висел портрет мой на гвозде и вдруг в Страстную среду
рухнул, чтоб я вздрогнула — как ненадёжно свита
та тесёмка, как расшатан тот гвоздок! — свою победу
празднует воздушных духов свита.
Тот портрет Вильгельмом Левиком был написан к окончанью
школы, то есть — школьницей
настороженно гляжу я, подневольно,
чуть надменно, но и с робостью, с тайной страстью к умолчанию,
с поэтической тоскою — мол, душе земное ваше — больно.
Мол, нельзя без неба ей, без чуда ей — никак и не смириться,
если лестницы не спустятся с небес, не взмоют ввысь позёмки.
И горит огонь огромный, в буйных волосах змеится,
а вокруг все — сумерки, потёмки.
И без прикровенных знаков — тошно всё, бессмысленно: пасутся
скопом все, толпой, неразличимо…
Станешь связывать тесемки, а они и не сойдутся,
станешь забивать гвоздок и — мимо, мимо!
И теперь, в Страстную среду, я не то чтоб от портрета
жду ответа, но я чувствую, как властно
всё своё же — душу ловит, держит, ломит, ранит, — это
Левик передал как раз прекрасно!
Сон
Мне приснилось что-то такое, мол — мир и Рим.
Будто с неким вроде бы даже Ангелом об этом мы говорим.
Хоть Мартына Задеку бери, хоть Юнга — один ответ:
ты, душа, измельчилась, бедная, так выйди на Божий свет.
Выйди, выйди на Божий свет, ведь там — Рим и мир.
Человек наматывает круги, как конь скаковой; как сыр,
в центрифуге сбивается; спекается, как рубин:
кровяные тельца, алый билирубин.
Человек сгущается, как туман, по углам клубится, как тьма.
Человек боится сорваться с круга, сойти с ума.
Поломать хребет, прорасти хвощами и ржой.
Ну а больше всего боится, что его поглотит Чужой.
Потому-то, как в мир войдёшь, ищи там, конечно, Рим.
А как в Рим войдёшь, выбирай лицо, надевай хитон, пилигрим.
А как станешь победителем на ристалище, бери в награду сапфир:
побеждая Рим, ты побеждаешь мир.
Так и ты, душа унывающая, дерзай, иди и смотри.
Отверзай глаза, закрытые страхом, при счете “три”.
Пусть тебя терзает волчица алчная, гонит по пятам —
смерть твоя, как в яйце Кощеевом, вовсе не здесь, а там.
Ах, не об этом ли сказывал пернатый легионер: он держал кольцо.
А на нем — сундучок заветный, а там — яйцо.
А в яйце — сшивающая концы и начала таинственная игла.
Если уж где-то жить, так в последнем Риме, — я так это поняла.
Голованов Василий Ярославович родился в 1960 году. Закончил журфак МГУ. Автор книг “Тачанки с Юга” (1997), “Остров” (2002), “Время чаепития” (2004), “Пространства и лабиринты” (2008). Лауреат российских и международных литературных премий. Постоянный автор “Нового мира”. Живет в Москве.
БУЛЬВАР
Вот, значит, это случилось, когда я шел поздравить с шестнадцатилетием свою старшую дочь. Но прежде я должен объяснить, что значит “шел”. Потому что это слово не столь уж невинно, как выглядит на бумаге. Я шел не с работы, я возвращался не из дальней командировки, я шел издалека, из далекого мира своей жизни в ее мир, теперь уже взрослый, чтобы потом надолго, до следующей нашей встречи, уйти обратно, как в параллельную штольню. Я виноват перед читателем, и чувство этой вины искренне: не так уж приятно сознаваться в том, что и моя жизнь, как жизнь других миллионов людей, прошла не без слома, я был, но так до конца и не стал хорошим отцом, эта роль осталась недоигранной, и мне больно от этого, как было больно другим миллионам отцов и матерей, потерпевших частичное или полное крушение в своей семейной жизни.
И вот я шел, слегка подобрав паруса, осторожно, еще не зная, что именно я скажу своей почти взрослой дочери, когда достану свои подарки, и как отреагирует мое сердце на тот мир, к которому я приближаюсь с каждым шагом, — ведь это был сначала мир моего детства, потом мир моего счастливого отцовства, а потом вдруг он стал чужим, и в один прекрасный день вихрем жизненных обстоятельств меня просто вынесло оттуда, может быть даже слишком поспешно, с двумя наспех собранными сумками и ботинками, одетыми на босу ногу. Вот от этого перекрестка, где через дорогу от пожарной части начинается Звездный бульвар, в округе нет ни одного места, не связанного с какими-нибудь воспоминаниями, и воспоминаниями в основном счастливыми: памятью о безмятежных детских годах или о счастье любви. Вообще тут всего было столько, что едва я завидел за деревьями бульвара дом, в котором рос когда-то и где теперь дорастала до взрослого человека моя дочь, как меня просто прибило к земле воспоминаниями. Удар был такой силы, что я сглотнул воздух и остановился.