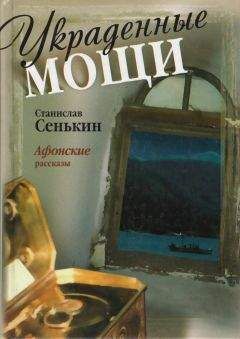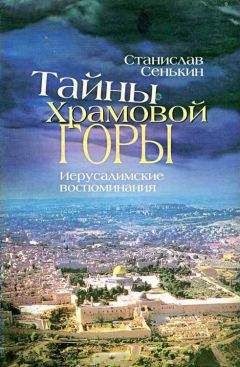Ознакомительная версия.
Отец Евфимий продолжил:
— То смирение, о котором ты говоришь, это дар Божий и признак святости. Человеческими силами такое смирение не стяжать. Мы можем только своими делами показать Богу свое произволение и желание придти в такое состояние, а уж только от Него зависит, кому раздавать Свои благодатные дары. Но, помимо смирения-дара, есть еще и смирение-делание, когда мы принижаем себя как в собственных глазах, так и в глазах других людей. И даже если ты, Григорий, не можешь смириться с нудными поучениями отца Гервасия, ты можешь, по крайней мере, смириться с тем, что ты никак не можешь с ними смириться.
— Я не силен в таких вещах, отче, — Григорий стал жалобно просить духовника благословить его на пустынножительство. — Там мне будет спокойней — исихия[1]. Буду плести четки и есть свой скудный хлеб, молясь Христу в глубокой тишине.
— Понимаешь, какое дело, — отец Евфимий всегда пребывал в каком-то покое, в другом состоянии духа Григорий пока его не видел, — то, что ты осознал свою неспособность к послушанию, — это признак смирения. Но твое стремление в пустыню есть признак уже демонической гордости. Ты хочешь убежать сам от себя, от своей неспособности смиряться.
— От боли!
— Да, и от боли тоже, — духовник вдруг стал говорить еще более вкрадчиво: — Григорий, я хочу открыть тебе одну тайну, но ты должен пообещать, что никто об этом не узнает.
Заинтригованный монах сразу согласился:
— Конечно, отче, я буду нем, как могила.
— Так вот, слушай. Недавно мне было от Господа откровение о самых смиренных людях Афонской горы. Увиденное так поразило меня, что я вначале даже усомнился в божественном источнике этого откровения. Но затем все стало на свои места, — отец Евфимий вдруг задумался, словно что-то вспоминая. — Так вот, на вершине этой святой пирамиды стоит отец Богдан — македонец, который живет в Кавсокаливии, в келье великомученика Димитрия Солунского. Я давно его знаю, Григорий, он плетет четки, зарабатывая этим на жизнь. Мне бы хотелось, чтобы ты немного поучился у него настоящему смирению, поэтому я отправлю тебя к нему с одним личным поручением.
— Здорово! — Григорий полностью отошел от своих скорбей и уже представлял себе встречу с самым смиренным афонским подвижником, а может быть, одним из самых смиренных людей мира. Великая благодать!
Духовник вытащил из кармана рясы сто евро и медленно передал деньги Григорию:
— Завтра бери благословение у игумена и поезжай в Кавсокаливию. Скажи отцу Богдану, что я хочу купить у него четверо четок. Теперь иди в келью, уже поздно, — он опять задержал его на мгновенье, взяв за рукав. — Правило-то выполняешь?
— Конечно, все так, как вы мне и назначили: семь четок с поклонами.
— Ну, хорошо, иди, дорогой.
— Благословите, отец! — и Григорий радостно пошел в свою келью, думая о завтрашнем дне.
На следующее утро молодой греческий монах — обладатель скверного характера, получив благословение игумена, сел на паром и отправился в скит Кавсокаливию учиться смирению. Паром плыл вдоль святого полуострова, и монах наслаждался прекрасным видом афонских монастырей и скитов, окруженных зеленой растительностью. Кавсокаливия была последней остановкой, и плыть нужно было еще долго. Григорий заметил одного знакомого сиромаху[2] — русского монаха, уже целый год ходящего по горе от монастыря к монастырю:
— О! Здравствуй, Николай, как твои дела?
— Очень хорошо, как у тебя? — Николай плохо говорил по-гречески и знал только самые простые фразы.
— Да нормально. Ты сейчас куда?
— В Григориат. А ты куда? — они говорили громко, перекрывая шум ревущего мотора.
— Я в Кавсокаливию к отцу Богдану, знаешь такого?
Николай, похоже, удивился:
— Да кто ж не знает этого злого монаха?
— Злого?! — Григорий подумал о том, как велика зависть диавола. Самого смиренного человека Афона какой-то русский проходимец зовет злодеем. — Молчи уж лучше, Николай, ты уже и сам, как я гляжу, обозлился. Езжай-ка лучше обратно в свою Россию. Что вы все рветесь сюда, как будто у вас там Бога нет?!
Николай, обидевшись, наспех попрощался с ним и отошел в другую сторону парома, а Григорий, уже укорявший себя за вспыльчивость, погрузился в молитву…
Наконец, паром подошел к последней пристани. Седовласые старцы с мулами, нагруженными всевозможными тюками, молодые послушники с торбами, рабочие и восторженные паломники — все смешались на выходе с катера в одну разнородную толпу. Григорий спросил у одного вежливого схимника, у которого был на удивление спокойный навьюченный мул, где тут в скиту находится келья великомученика Димитрия. Получив исчерпывающий детальный ответ, он улыбнулся, поняв, что отец Богдан достаточно известный монах, а может быть, и почитаемый старец, — странно, что раньше он ничего о нем не слышал. Поблагодарив схимника и сжав покрепче посох, Григорий стал подниматься по древним каменным ступенькам.
Без труда найдя эту келью, Григорий постоял немного, собираясь с духом, и постучал в дверь с непременной молитвой: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Никто к двери не подходил, и Григорий повторил свою попытку:
— Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, — он, наконец, услышал шаркающие шаги.
— Кого там лукавый опять принес?! Чего надо?!
Григорий подумал, что таким образом старец скрывает свои добродетели от мира, от таких праздношатающихся верхоглядов, как Николай. Конечно, мир отвечает ему завистью, ненавистью и презрением.
— Я из Ксенофонта, монах Григорий. Приехал по поручению отца Евфимия.
— Евфимия? Что этому старику от меня надо? — отец Богдан слегка переждал изумленное молчание, словно молния, разорвав стереотип собеседника новым выпадом: — Чего ты теперь заткнулся?! Я тебя спрашиваю, сынок, что этому старику от меня надо?!
Григорий понял, что так отец Богдан его проверяет на смирение, и решил терпеть все до конца.
— Он хотел бы приобрести у вас несколько четок, отче!
В ответ наступила короткая пауза. «Перед бурей», — подумал Григорий.
— Четок? Ну ладно, сейчас, подожди, — старец, то и дело разражаясь проклятьями в адрес замка, открыл скрипучие двери. — Заходи быстрей, у меня мало времени.
Григорий посмотрел в лицо отца Богдана: оно было красным, с маленькими злыми глазками, большая нечесаная седая борода окаймляла подбородок, грязные грубые кисти рук теребили сальный подрясник.
— Чего уставился, олух?! — старец резким взмахом связки ключей указал на стол с низенькой скамейкой. — Сядь туда! Лукума у меня нет, если хочешь жрать, вынесу тебе пряники. Ты хочешь жрать?
— Нет-нет, отче, я не голоден.
— Отлично! Воду-можешь набрать вон в том кранике, стакан рядом, сиди тихо, молись, а я пока вынесу товар, — старец зашел в келью и долго шумел, недовольно ругая дьявола, отца Евфимия и его самого весьма сочными выражениями, которые Григорий слышал в Афинах от уличной шпаны уже так давно, что и позабыл, как они звучат. Через десять минут старец, ежесекундно чертыхаясь, вышел, держа в руках связку четок разных цветов и длины. Он бросил эту горсть на стол и грубо спросил:
— Сколько хотел заказать старик Евфимий?
— Четверо четок.
— Так мало? Стоило ли посылать тебя из-за ерунды в такую даль? Мой тебе совет, малец, держись подальше от этих духовников — от них одна беда. Когда я был молодым послушником, гораздо моложе, чем ты теперь, то есть четырнадцати лет от роду, один известный святогорский духовник прилюдно возмутился, что такие молодые безусые юноши, как я, спокойно разгуливают по горе, соблазняя монахов. Не выдержав оскорбления, я вцепился ему в бороду и вырвал густой клок волос, — старец при воспоминании об этом инциденте воспламенился гневом; казалось, что краснота его лица перейдет сейчас на бороду и она загорится. — За это меня чуть не упрятали за решетку и удалили с горы, но я вновь пробрался сюда тайно и жил в ущельях и пещерах шесть лет. Как дикий зверь, я выходил ночью на промысел, воруя еду и одежду… Никто не хотел меня принимать в монастырь, потому как на третий день, максимум через неделю, я устраивал в обители жестокую драку. Полицейские так зауважали меня, брат, что при встрече до сих пор отдают честь. Но, как ты уже успел понять, меня, старика, никто не любит. Послушники у меня держатся, самое большее, два часа, — отец Богдан немножко расстроился. — Но мне они и не нужны, эти послушники-лентяи, все бы им есть и спать. Смирения у них — ноль, потом только ходят и порочат меня по всему Афону, — отшельник махнул рукой и смачно выругался. — Сколько раз лаврские старцы хотели выгнать меня отсюда, с горы, с этой кельи, если бы ты знал! А какие подлости вытворял прежний дикей[3]! О! Тем не менее, я на Афоне вот уже шестьдесят лет, малец, — старец казался гордым, оттого что он все еще живет здесь и, несмотря на преклонный возраст, сам ухаживает за собой. — Ну, ладно, заболтался я с тобой, давай деньги, получай товар и уматывай отсюда, мне пора молиться Богу.
Ознакомительная версия.