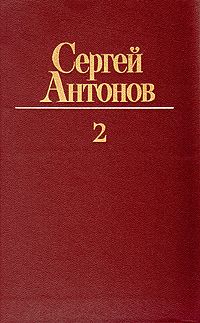— Вовсе закона не понимает, — ворчала Ниловна. — Все не как у людей.
Предстоящее неприятное дело тяжелым грузом лежало на душе Дедюхина, и он спросил оглянувшись:
— А Задунайская где? Агроном где?
— Дома, — ответил чей-то ехидный голос. — Лежат. У них насморк…
Молодая агрономша, прибывшая месяца три назад из области, еще не нажила авторитета. Ее не любили.
Дедюхин подумал, что, прежде чем разбираться со Столетовым, было бы полезно поговорить с Лопатиным.
— А жених где? — спросил он.
— На ферму отлучился.
— То-то вижу, невеста тоскует… — пошутил председатель исполкома.
— Прямо тоскую! — откликнулась Любаша, и улыбка так и брызнула со всего ее милого лица. — Я ведь еще и не люблю его, Яков Макарыч!
Дедюхин собрался было уточнить непонятную ситуацию, но Ниловна уже подносила ему граненый стакан самогонки и перламутровую селедочку.
— Ни-ни-ни, — Дедюхин заслонился обеими руками и отвалился назад. — Доктор сказал, после первой рюмки — карачун.
— Может, пугает? — усомнилась Ниловна.
— Может, пугает. А лучше не проверять.
— Истинно, истинно… Лучше не проверять, — говорила Ниловна сахарным голосом. — А все-таки откушайте, молодых не обижайте.
— Нет уж. Никак не могу. Кваску с ледком — другое дело…
Он прихлебывал кислый, пахнущий погребом квас и с улыбкой наблюдал за Любашей: как она срывалась с места услужить гостю или поплясать с подружкой, как украдкой показывала язык ребятишкам, которые, повиснув яа окнах, хором запевали дразнилку: «Тили-тили тесто, Любка-невеста», — и легче становилось у него на душе, и какими-то пустыми казались все его хлопоты.
А когда Любаша, раскрасневшаяся, горячая, снова села на свое место, он спросил ее озабоченно:
— Почему же ты не любишь такого молодца?
— Не знаю. Боюсь его. Дурочка еще.
— Чего же выходишь?
— Захар Петровил велел.
— Вон как у вас дело поставлено, — удивился Дедюхин.
— А чего? У меня, кроме бабки Ниловны, никого нету.
А Захар Петрович говорит — выходи… Уважать Юрия Андреича — уважаю, а чтобы полюбить — этого еще нет… Вот беда! Наверное, еще не научилась.
— Он научит, — ухмыльнулся Дедюхин, прихлебывая квасок.
— Прямо научит! — опустила глаза Любаша.
— Ты тише, — остановил ее Дедюхин, увидев в дверях жениха.
— А чего тише! Он знает.
Юрию Лопатину было двадцать восемь лет, но парень он был серьезный не по летам. По случаю свадьбы на нем была надета новая черная тройка и белый галстук, а на плечах и в русых волосах виднелись самодельные треугольные конфетти, которыми только что осыпали его дежурные свинарки на ферме.
Он бесцеремонно протолкался сквозь пляшущих и рукой остановил двух танцующих женщин.
— Ты, Варя, что же это, подсосным маткам барду скармливаешь?
— Не ко времени разговор, Юрий Андреич, — потупилась стройная колхозница.
— Не ко времени — а поросята от барды поносят, — словно на пишущей машинке, отпечатал Лопатин и пошел на свое место.
— Горько! — возгласил лохматый дедушка. — А ну, Яков Макарыч, за жениха!
— Нет, отец, уволь… А ты, Юрий Андреич, не обижайся. Были времена — пил, как суслик, не просыхал…
— Как тут удержаться! — подхватила Ниловна. — Начальство. Каждый старается подольститься. А может, лафитничек? А? Под огурчики? Только с подполицы? А?
— И под огурчики не могу… Мотор пошаливает. Микроинсульт.
— Ну, это еще не болезнь! Вот у меня болезнь так болезнь, — хвастала Ниловна. — Артшез называется. Артшез! Во какая болезнь. Бывает, ноги то не идут, а то побегут — не остановиться. А то бывает…
Ниловна любила рассказывать про болезни, но тут ей помешала Варя. Она подошла к Дедюхину и, зардевшись от смущения, попросила:
— Яков Макарыч, скажите председателю, чтобы он меня не усылал?..
— А куда он тебя усылает?
— На курсы. На зоотехника учиться.
Дедюхин внимательно оглядел брошенную по-девичьи на грудь косу, задубелое от ветра лицо, тугую кофточку, стройные ноги в новых туфельках.
— Постой, постой… Петрович у тебя в избе стоит?
— У меня.
— Гм-м… Губа у него не дура. Давно?
— С осени. С Октябрьских…
— Ты ему что же… и стряпаешь и стираешь?
— И стряпаю и стираю, — с готовностью кивала Варя.
— И прочее?
— И прочее… — кивнула Варя, но спохватилась и покраснела. — Как вам не совестно, Яков Макарыч?
— Ничего. В порядке шутки. И теперь он тебя усылает?
— Усылает.
— Хорош гусь!
Дедюхин вздохнул и записал что-то на полях газеты.
— И чего она на него позарилась, — ворчала между тем Ниловна. — С мужиком в избе тоже не сладко. То есть ему подавай, то пить, то пить, то есть.
— Больно огнеупорный ваш Захар Петрович, — довольно громко сказал Дедюхин. — Как бы ему с колхозом не распрощаться. — И с любопытством взглянул на Варю.
— Это почему? — Она беспомощно оглянулась. — За что?
— А ты об нем не тоскуй. Баба выпуклая. Найдешь постояльца.
— Как же так? — продолжала пораженная Варя. — Вы же его сами рекомендовали, сами на собрании хвалили…
— Уважаешь ты его, — ухмыльнулся Дедюхин.
— Неужели нет! — вырвалось у Вари. Она снова покраснела и смолкла.
— А его весь колхоз уважает, — пришла к ней на Помощь Любаша. — Раньше нищие были, а При нем часики завели, в штапелях ходим!
И она украдкой взглянула на жениха, стараясь угадать по его взгляду, так ли сказала.
— Это не его заслуга, а заслуга партии, — заметил Дедюхин.
— А мы партийного и хвалим! — подхватила Любаша и снова взглянула на жениха.
— Ты меня не учи! — вдруг вроде бы ни с того ни с сего рассердился Дедюхин. — Своего мужика учи! А у меня, кроме вашего председателя, еще сорок! У меня радиус ответственности сто километров, к вашему сведению…
Он любил напоминать о своей ответственности и, подобно некоторым другим недалеким начальникам, был убежден, что, не будь его на свете, в радиусе ста километров все пошло бы прахом.
Зойкин сынишка Федька разыскал Захара Петровича на поле третьей бригады и стал кричать, что подъехала легковушка и председателя срочно требуют в правление. Столетов досадливо поморщился.
Он понимал, конечно, что история с агрономшей добром кончиться не может, но то, что начальство приехало слишком быстро — на следующий день после происшествия, — ему не понравилось. Боялся он не за себя. Он опасался, что Дедюхин увидит нескошенную кукурузу, начнет командовать, навредит хозяйству.
Столетов еще раз окинул взглядом желто-коричневые стебли, изнывающие под солнцем, ломкие, треснутые листья, сухо шуршащие под горячим ветром, и зашагал быстро и решительно, словно ставя печати своими поношенными рыжими «кирзами».
Это был худощавый снежно-седой человек. Но несмотря на его седину и строгие морщины, несмотря на опущенные, припухшие веки, больше сорока лет ему не давали, хотя он подбирался уже к пятому десятку.
В нем сохранился неистраченным большой запас озорной молодости: ходил он легко и стремительно, и под опущенными веками молодо мерцали стальные, пронзительные глаза.
Он шагал к деревне, размахивая руками и как-то странно сложив губы. Если внимательно вслушаться, можно было разобрать, что он довольно верно насвистывает: «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка» — мотив своей комсомольской юности. Впрочем, свист был такой тихий, что больше походил на шипенье.
В правлении колхоза председателя ожидали следователь и милиционер.
Захар Петрович протянул каждому свою большую мосластую руку и улыбнулся, блеснув стальными зубами. Потом он очистил письменный стол от бумаг, папок и журналов, усадил следователя на свое место, а сам сел против него на табуретке в трех метрах.
Следователь вынул из кармана старенькую вечную ручку, отвинтил колпачок и задал первые обыкновенные вопросы. Потом спросил, судился ли гражданин Столетов раньше.
— Судился, — отвечал Столетов. — Дали двадцать пять и пять по рогам.
— Двадцать пять лет, — спокойно записал следователь. — И пять лет поражения в правах. Так. В тридцать седьмом, конечно?
— В тридцать седьмом. А в пятьдесят четвертом реабилитировали.
— Вот и хорошо. И нечего вспоминать об этом.
— Семнадцать лет отдыхал. Забыть трудно.
Столетов опустил голову и уставился в пол. Следователь сочувственно поглядел на его снежно-белый затылок, обвел взглядом кабинет. Кабинет в какой-то мере отражал характер председателя. Чистые, беленые стены не были ничем украшены. Только против окна висели барометр и политическая карта мира. Бросалась в глаза категорическая табличка: «Здесь не курят». Табличку, видно, слушались — в кабинете было светло и чисто, как в жилой горнице. На подоконнике стоял маленький колючий кактус.