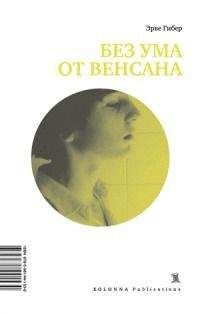Катрин любит, когда я ей Оскара Уайльда наизусть, запросто так, встав в его позу. А я могу, когда настроение. Когда к нам приходил отец, мама всегда меня просила что-то для него почитать по-английски. Она так хотела, чтобы я ему нравился. Уже в десять лет она меня для него воспитывала. А он, конечно, был доволен, что не дворовый мальчик растет, но ему все равно было, у него уже все свое было, нам чужое. Через меня мама его вернуть пыталась, наивная.
Они мне уже все звонили. А? Как быстро раздобыли и телефон, и адрес, и все. Дядя мой, сто лет его не было, бодрым голоском — ну, когда к нам? На самом деле хотел спросить, когда мы к тебе! Они думают, я приеду принимать участие в их музыкальной революции. Уже, спешу, мчусь открывать консервную фабрику! Дядя: мы были на кладбище… Какой я молодец и умница, что кремировал маму. Я заранее все предвидел. Они мне тогда — ты бесчеловечен. Но они бы не ходили ухаживать за ее могилой, и все эти годы я бы об этом думал, не был бы свободен, совесть бы меня мучила. А так мама в стене. Маленький квадратик принадлежит ей. Как Айседоре Дункан на «Пер Лашез».
Я потерял все связи с домом, родиной. Я теперь и не понимаю толком — что моя Родина? Живя в Эстонии, я никогда не сомневался, что я эстонец, но знал, что моя страна — это Советский Союз. Моя детская родина — Таллин, родина моей юности — Ленинград, а молодости — Москва. Но за десять лет, что я здесь, моя Родина стала такой эстонской, что противно. А была она Эстонией всего двадцать лет во времена бабушки.
Вот опять он начал свой урок. Конечно, он тренируется. Я живу здесь десять дней, и каждый день в одно и то же время — ну, меня только несколько раз в это время не было — он начинает барабанить. Я выглядывал в окна и смотрел во двор, на окна напротив, чтобы понять, где он. Не видно. Не сидит же он, на мою радость, прямо перед своим окном с барабанными палочками. Ничего страшного, конечно, но как-то странно — этот барабанный бой. Впрочем, он хороший барабанщик, видимо, даже я могу понять, хоть в музыке слабак. Мелодии какие-то выбивает. Но если я буду работать в ресторане, то меня должно будет это беспокоить. Я буду в это время спать хотеть. Впрочем, не решил еще, буду ли в ресторане.
Антонио мне посоветовал. То есть он просто так сказал, а я для себя решил. Я хотел уже пойти в этот их бар, но потом струсил. Уж как-то это в открытую слишком. И потом я не знаю их нравов. Я ничего не знаю. Я прочел всего Оскара Уайльда, но сейчас это не применишь, и его поведение мне не. поможет. Антонио, конечно, все мои намерения раскусил, но, о Боже, как тонко и просто. Не грубо — уйди, мол, пэдэ. А — мы ведь друзья. И стало хорошо, и еще больше захотелось с ним быть, да, с другом. Он меня как будто спас. От себя самого. Я точно свихнулся. Но убежать от себя невозможно, я уже столько лет бегу. Поэтому я повинуюсь и иду, себя самого за руку ведя. Будь что будет. Ох, я еще ничего, ничего… Только в мыслях, в фантазиях. Но так себя доведу иногда — лицом в подушку плачу.
Так вот, я решил не устраиваться к ним в бар. Я еще останусь в магазине поработать, попробую с Виктором завязать отношения, чтобы все узнать — как они это делают. Хотя он груб, конечно, ну, продавец. А потом, может, устроюсь в этот русский ресторан, к эстонцу — вот же, про страну Эстонию до недавних дней и знать никто не знал, поэтому и русский ресторан у эстонца! Научусь там ресторанному делу и, уже наученный и тому, как с ними надо, и как в ресторане, приду в бар. Блестящий профессионал плюс эрудит, весь в дипломах, три языка, легкая походка, неделю не брит — мне очень идет, и эти волосики-щетинка под нижней губой наинежнейшие; попка стоит — упражнения очень хорошие нашел в книжке, ноги вместе и делаешь выпад правой ногой вперед, сгибая колено, мышцы тогда напрягаются на ягодице, и обратно в исходное положение и так далее. Одежды у меня всегда прекрасные, это еще с детства осталось, порядок от мамы и аккуратность от бедности. И вот приду к ним — я с вами. Впрочем, об этом говорю, а сам — трус несчастный. Виктор этот американский мог бы научить. И не научить, а просто взял бы и лишил невинности. Но он как-то в открытую, и потом он видел меня с Катрин, теперь мне неудобно. Мне с самим собой неудобно.
Ну, я купил этот вибратор просто так, еще в мае. Сейчас уж конец августа. И я им Катрин мастурбировал. Теперь стыдно. Будто предал его, вибратор. Он смешной. Его можно поставить на пол включенным, что я и делаю вечером, свет выключив, только подсветки оставив, — теперь этот ёж-солнце будет свидетелем и смотрю, как он дрожит, и сам начинаю дрожать. Пошел утром сегодня в туалет, как всегда после кофе с молоком, и вот, когда я бумажку оторвал и поднес уже, так испугался, потому что подумал, сейчас я что-то сделаю. И сделал. Сильно вытерся и почувствовал, потому что захотел почувствовать. И тогда, тщательно вытеревшись, просто уже стал бездумно, не контролируя себя, массировать и внутрь проникать, и страшно до чертиков было, и так хотелось просто разорвать себя, но испугался, вскочил, брюки натянул, руки мыть, выпрыгнул из ванны, по комнате забегал, а в голове пульс — хочешь, хочешь, хочешь. Никуда не деться было, еле успокоился. Тут телефон зазвонил как раз.
* * *
Хозяин сам не рад, что оказался такой добрый, — дал отпуск на десять дней. Хоть и сам воспользовался, закрыл магазин. Но и горд собой неимоверно. Да, вот оно добро — просто так его и не сделал бы. И никто бы не оценил, просто так. А была мне нужда, нужен был отпуск — на переезд, на устройство и прочее, — и у него оказалась возможность сделать добро. Которое в десять раз выросло из-за того, что мне необходимо было. Это как если даешь милостыню на улице — только тогда добро, когда просят. Когда совсем несчастное существо, с изъеденными язвами ногами, и ты ему свои несчастные десять франков от испуга — совсем неимоверное добро. А так, дай кому-то на улице просто так — наорут: «В своем уме, молодой человек?!» Завтра уже пойду на работу. В июне я очень хорошо заработал на распродаже. И сейчас остались вещи от летней коллекции. И это только так кажется, что ерунда 10 процентов. Но когда от большой суммы столько всего себе купить смог. И теле, и стерео, и бинокль продавец всучил зачем-то.
Олечку я потому вспоминаю, что мои отношения с ней и были как отношения Эстонии с Россией. Я когда с ней был, в ней когда был, то будто что-то запретное делал и очень торжественное. Я, маленький эстонец, неважно, что метр восемьдесят три, маленький я, эстонец потому что, ебу — другого слова и нельзя! — большую русскую девушку. Это было именно русским глаголом на «е», а не мэйк лав, не фак и не бэзе, никакое не деланье любви. Еще так могут, которые все потеряли, у которых ничегошеньки в жизни уже. Особенно любил я поставить ее на коленки и очень был рад всегда так кончить. Все взрывалось внутри. Она ничего, по-моему, не понимала и ни о каких оргазмах не подозревала. Но и для нее происходило что-то очень важное. Я, иностранец, тем, что с ней был, ее русскость еще больше возвышал. Большая Оля гордилась мной, когда мы с ней в «Европейскую» входили. Какие они там безвкусные были, даже в «Европейской». Мы, конечно, куда цивилизованней, от немцев досталось. И русские этим в нас всегда восхищались — какой сервис! — и за это же ненавидели. Но и мы их — как они гадили всегда в гостиницах, все ломали и воровали! — бабушка даже ненавидела русскую походку по снегу! — а преклонялись и восхищались их наплеванием на завтра: гулять так гулять! Мы с Олей очень хорошо смотрелись в Ленинграде. Красивые были, оба беленькие. Стала, наверное, коровой, как и все русские бабищи. Впрочем, она, может, уже за шведом замужем.
Откуда это во мне появилось — всех в одну кучу мешать? Антонио я, правда, не мешаю, я его ох как отделяю. Как хорошо, что я по-русски могу его стихи читать. В них что-то очень мальчишеское, как и все в нем — и закидывание головы лицом к небу, когда он от челки отмахивается и хохочет. И я будто в весне побывал после встреч с ним. Как в нотрдамовском садике посидел на скамейке под низким деревом. На нем цветы жирные, розово-белоснежные, с пчелами в серединках. Еще подумалось, что Антонио сладкоежка.
Плакат мой, ежа-солнце, помог Жерар сделать. Он приходил уже сюда, сказал «симпа». Он все переживает свой последний раз с девушкой, когда он попробовал с презервативом. Сказал, что это как будто суп через соломинку есть. Глупо, конечно, — суп через соломинку. Но он неправильно сравнил. Через соломинку, это значит что-то не сразу, а долго растягивая. Так с кем-то быть очень не просто, все хотят все и сразу. А с презервативом, это как если есть что-то, вкусовых качеств лишенное. Как космонавт.
Я никогда не буду с презервативом. Уже слово себе дал. И Катрин сказал как хочешь. Она хочет. Она мне принесла свидетельство — ходила на чек-ап — что она серонегативна. Я сказал, что не пойду. Подло, но вот так. Я уже все решил. А с мужчинами я умудряюсь как-то не говорить на эту тему. Это самое главное только бы не заговорить. Я сразу себя выдам. И главное, что выдавать-то нечего, что выдавать? Фантазии мои? Но кто о чем фантазировать может!.. О таком, такое — конечно, не простят. Жерар говорит, что если найдут вакцину, то не раньше, чем через десять лет, затем еще некоторое количество лет на внедрение ее в медицину — так что лет через пятнадцать человечество будет спасено. Мне бы было пятьдесят лет. Как я сказал — было бы. А почем я знаю, что не будет?