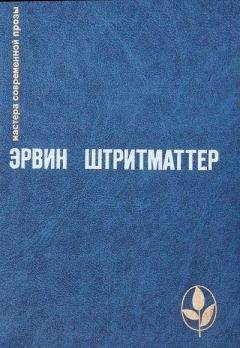Мне нравилось делать такие открытия. Я снова учился удивляться, как ребенком мог удивляться тому, что луна не падает на землю.
А смысл жизни, в чем он все-таки? Кажется, каждый это знает, пока его об этом не спрашивают. А как обстоит дело с человеческими потребностями? Может, кроме настоящих, есть еще и такие, которые люди сами себе понапридумывали?
Меня так и подмывало иногда завести об этом разговор на партгруппе, но я молчал, потому что не нашел еще своей точки опоры и чувствовал, как сердце капля за каплей наливается адреналином. Да и сейчас я не хочу говорить об этом, а то мы так и не найдем короткого замыкания. И вообще я старался ни с кем не говорить об этих мыслях, я боялся, что обязательно найдутся умники, которые захотят объяснить мне, что все это блажь и глупости.
Со временем я позабыл о Гланте, моя ненависть к нему перегорела. Пусть себе делает свое дело, а я буду делать свое. Я преодолел себя, в глубине души примирился с ним, хотя и избегал его по-прежнему.
Но всякое знание — всего лишь пустой звук, если не закалить его в сутолоке жизни; только тогда оно превращается в золото. Прошлой весной за какие-нибудь семь дней жизнь моя снова перевернулась. Я думал, что обрел покой, но он оказался миражем. Гора прочитанных книг не помешала мне снова сделаться посмешищем.
Небо в один из этих предвесенних дней было чистым, и только одно-единственное облачко, похожее на взбитый пуховичок, висело над деревней. На лугах еще не пробилась зелень, но где-то уже распевал одинокий дрозд — впрочем, я знал, что пел он не для меня. Фырчал трактор; но и трактор меня не касался, ведь я не был трактористом. Вот шарканье лопаты, которой я, стоя в кузове прицепа, ссыпал известь в прилаженный к трактору навозоразбрасыватель, меня касалось.
В кабине трактора сидел Вернер Вурцель, насвистывал какую-то мелодию, уверяя, что это «Весенняя соната» Бетховена. Убедить его в том, что он ошибается, было невозможно. Вурцель затянул потуже свой ремень телячьей кожи и дал газ, увозя за собой пустой навозоразбрасыватель.
Я мог передохнуть и закурил, прислонившись к ветле с обрубленной верхушкой и глядя на висящее над деревней облачко-пуховичок. Настроение у меня было не самое лучшее: накануне вечером жена засиделась на собрании клубного совета, наутро проспала, и мне пришлось подыматься самому. Кормя кур, я обнаружил, что лиса утащила одну из несушек (производительность — двести яиц в год), и по этому поводу я долго размышлял о сущности хищников. Позавтракал я кое-как и на четверть часа опоздал на работу, а занятие у меня было самое противное из всех, что ни на есть в сельском хозяйстве: разбрасывание минеральных удобрений.
Я долго не вспоминал о Гланте, но здесь, весь запорошенный известковой пылью, которая забивалась в ноздри и, стоило мне моргнуть, облачком взвивалась с ресниц, я подумал: приходилось ли Гланте когда-либо грузить известь за обычные трудодни или нет? Прежняя злость шевельнулась во мне, в отчаянии я глядел на висевшее над деревней облако, как оно медленно растворялось в небе.
«Помяни кого ослом, тут его и принесло», — говорят у нас в деревне; я же полагаю, что есть такие телефонные провода, о существовании которых мы и не подозреваем, слишком уж они тонкие.
На своем краснобрюхом мотоцикле к нам подъехал Гланте. Я был уверен, что он приехал проверить меня, потому что я утром опоздал на работу. Но все должно было выглядеть как бы между прочим, поэтому на нем не было защитного шлема и он ковырял что-то в карбюраторе — так, решил немного прокатиться. Он кивнул мне, не слезая с мотоцикла, его волосы цвета яичной скорлупы сбились от ветра в пряди, мотоцикл тарахтел, сверкал золотой зуб.
Я знал, что выгляжу как набеленный цирковой клоун, и понимал, что надо мной смеются. Гланте кивнул еще раз, взглянул на меня и сказал: «Тебе бы в свинарник!» «Ага, — подумал я, — это значит, в таком виде, как у меня, только в свинарнике работать». Но Гланте, кажется, почувствовал, что я вот-вот взорвусь, погасил свой зуб и спросил с серьезной миной, не хотел бы я поработать в свинарнике.
Я потер лоб, потер глаза, так что выступили слезы от въевшейся извести. Надо было прийти в себя, чтобы сообразить, что́ кроется за этим предложением Гланте.
— Что-нибудь не ладится в свинарнике?
— Ладится, но ты там нужен, и срочно.
Я смотрел мимо Гланте, видел, как из-за леса поднималась огромная туча, и пытался отряхнуть свою запорошенную известью одежду. Кто-то, должно быть, уже успел рассказать этому проныре Гланте, что поросята, которых я возил на продажу еще единоличником, были лучшими на всем рынке. Это польстило мне.
Гланте уговаривал меня, я не соглашался, ершился, кашлял и расхаживал туда-сюда. Мотоцикл завлекающе квохтал, как большая наседка, я дрогнул и уступил. Маленькая слабость, которой воспользовалась чуждая воля, чтобы завладеть мной.
Сверкнул золотой зуб, мотоцикл напряг свое красное брюхо, рванулся вперед, наматывая дорогу на шины, затем снова размотал ее за собой, обдав меня выхлопными газами, волосы цвета яичной скорлупы растрепал ветер, и председатель умчался.
На общем собрании, где должны были утвердить мой перевод в свинарник, речь шла о больших планах. «Большая клюква Гланте», — думал я; что бы ни предлагал Гланте, все мне было не по нутру, даже если я и знал, откуда дует этот ветер. Наш-де кооператив то ли собирается, то ли обязан (а может, и то, и другое: уж я-то знал, как это бывает) взять на себя выкорм свиней за три соседних хозяйства. А соседние хозяйства будут-де поставлять нам зерно и картофель, тогда как мы беремся выполнять за них мясные поставки. «Давайте, давайте, — думал я, — чего проще, а бухгалтерия пусть себе потом голову ломает!»
Исцарапанный дубовый стол, некогда принадлежность господского дома, был завален строительными чертежами — планом свинарника на пятьсот откормочных голов. Это был первый в целой серии таких же свинарников. Предложение о его постройке было принято, пришлось и мне поднять руку — как-никак речь шла о моем будущем рабочем месте.
Наконец настала и моя очередь, хотя ничего приятного меня не ожидало: меня планировалось командировать на специальные курсы свиноводства.
Вот, оказывается, что приготовил мне Гланте! Это был страшный удар. Я беспомощно искал глазами жену: она о чем-то живо беседовала с трактористом Вернером Вурцелем и автоматически подняла руку, обрекая меня на курсы. Да и все остальные, поднимая руки, были заняты кто чем, разговаривали и не обращали на меня никакого внимания. Должно быть, приговоренный к расстрелу на чужбине, вдали от семьи и друзей, испытывает то же самое, что испытывал тогда я. Никто даже не взглянул на меня, никто не возразил: «Как, Эдди, старого свинаря, и на курсы?»
Я теребил волосы, что могло быть понято как «за», так и «против», в результате моя командировка была решена.
Начиная с этого момента собрание продолжалось без меня. Я сидел в лодке, бросив весла, а она устремилась прямо в открытое море.
После собрания я, пользуясь мгновением, когда шарканье ног и шум отодвигаемых стульев заглушают слова, выпросил у правления неделю на размышление. Я говорил с зоотехником, но Гланте был тут как тут. «Добро, — сказал он, — но мы рассчитываем на тебя, помни об этом, из прогностических соображений».
Есть такие словечки, которые, родившись однажды в высших партийных и административных инстанциях, потом все время роятся вокруг нас и крепко западают в иные жадные до не своих слов головы.
Кое-кто у нас пользуется такими модными словечками из политического или экономического лексикона как флагом, другие рядятся в них под прогресс, а для третьих они просто как носовой платок.
Теперь вот все газетные статьи и речи районных деятелей заполонило словечко «прогностический», и хоть бы кто объяснил, что́ оно значит. Прогностический значит просто прогностический — прямо эпидемия какая-то! Редактор районной газеты впал в прогноз, как другие впадают в гипноз. «С прогностической точки зрения обществу рыболовов следовало бы заниматься не только извлечением рыбы из водоемов, но и ее насаждением в оные». «С прогностической точки зрения окончательного решения о составе женской сборной на межрайонный чемпионат по кеглям еще не принято».
Вечером я достучался до секретарши нашего сельсовета. Заодно она заведует у нас библиотекой. «Книги выдавались вчера», — заявила она, дотрагиваясь до голубой шелковой ленты, стягивавшей ее забранные в греческий пучок волосы. Она сердилась на меня, потому что по телевизору как раз должны были показывать один из еженедельных фильмов о «старых добрых временах».
Но со времени моего изгнания из председателей я был активным читателем, и секретарше не хотелось лишаться такого абонента. Она отправилась со мной в библиотеку, и я спросил энциклопедию.