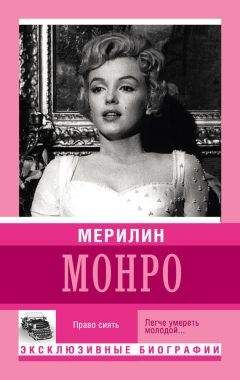Я, конечно, не мог покончить тогда с собой — кто заботился бы о Марте и Таде, моих сестре и брате? Добавлю, что мать не упомянула об этой ответственности в своей подробной прощальной записке. Бесподобная грамматика.
Женщина с грушевидной попкой встала, обдернула юбку и ушла в туалет. Ее землистый друг маслился, как куница со свежим куренком. Чтобы избежать его взгляда, я уставился на потолок, где пылал образ Синди в садовых шортах. Я познакомился с ней на занятиях, отметил ее привлекательность, но когда увидел ее над клумбой возле общежития, меня словно огрели обухом. Она возилась с цветами, стоя на коленях, и переговаривалась со стариком итальянцем, садовником колледжа и притом развратником.
Это — вторая часть моего огорчения. И первую-то — намек сестры на то, что труд моей жизни ничего не стоит, поскольку подлинным значением обладают наши мечты и видения, а не мелкие биографические подробности, — трудно было переварить, но вторая была еще горше. Накануне на утреннем рейсе «Американ эйрлайнз» (у меня налетано пятьсот тысяч Льготных Километров!) я взял журнал авиакомпании — и хлоп! Передо мной фотография Синди в статье, озаглавленной «Женщина многих цветов». Если быть точным, их у нее пятьдесят гектаров на ферме у Миссисипи, к северу от Ла-Кросса, Висконсин. Ей теперь пятьдесят лет, но она еще миловидна на флоридский, курортный лад — женщина, обласканная солнцем. Несколько раз была замужем, «трижды разведенная», выражаясь журнальным жаргоном, с «двумя взрослыми детьми» неуказанного пола. Сошло ли наше девятидневное блаженство за один из этих браков? Посвятила себя сохранению редких «фамильных» цветов и вместе с помощницами объездила полмира, собирая семена цветов, вышедших из садовой моды. Покидая ресторан после неизменного шербета, я был настолько расстроен, что чуть не сказал хозяину, что мой обед был «триумфом человеческого духа» — именно это я сказал несколько недель назад Марио Батали в «Баббо», где ужинаю по средам, когда бываю в Нью-Йорке. Марио посмотрел на меня и повторил: «Триумф человеческого духа?» Таковы мелкие подробности жизни. Я, мне кажется, терпеть не могу иронию — но как же легко стать ее жертвой. Ирония — это способ загородиться от очевидных высасывающих жизнь пошлостей нашей культуры. Можно сказать, что она делает жизнь переносимее, но не лучше. Это духовный героин. «Триумф человеческого духа» — как раз то, что слетает с языка, когда ты написал три дюжины Биозондов. Если бы только в этих словах была правда. Но, при тщательном рассмотрении, ее нет — или почти не бывает — в общественной жизни. Частная жизнь — другое дело, только разделить их теперь стало сложновато. Возьмите с прилавка и ощутите весомость «Нэшнл джиографик». Прочтите, скажем, статью «Греция: страна на распутье» и попробуйте вспомнить елейную муть на другой день. У вас будет чувство, что вас показывают по телевизору, потому что вас и впрямь показывают. Ваше стучащее сердечко — жертва всесварения.
Каким удовольствием было позвонить Синди — духоподъемный, отважный поступок, совершенно не запачканный иронией. Ее я, конечно, не застал. Сторожиха сказала, что сейчас весна (о чем легко забыть в городе) и что Синди в Канзасе, «трудолюбивая как пчелка», изучает ранние полевые цветы. Почему бы и нет, подумал я, не оставив ни своего имени, ни телефона.
Отчетливо помню тот вечер в Хинсдейле, Иллинойс, когда ее отец и юный брат скинули меня с террасы их красивого дома. Я не лилипут, и это потребовало усилий. Саму ее удержала мать, так что она не могла броситься мне на помощь, если и пыталась. Они были людьми состоятельными, и я ошибочно ожидал определенной корректности. Ее отец был убежден, что я из «этих чикагских радикалов». Брат же состоял в йельской гребной команде — из тех здоровых ребят, которые ворочают веслом, покуда не превратятся в приличную гору мускулов. Никогда еще я не чувствовал себя таким сиротой, как там, растянувшись на их дворе, воткнувшись носом в клумбу, несомненно возделанную самой Синди.
По ряду причин я проснулся на заре со смехом. Для пятидесятипятилетнего мужчины это недалеко от триумфа человеческого духа. Я вспомнил сон, приснившийся мне в семнадцать лет, — что в чулане нашего старого дома на ферме в Индиане, медленно окружаемой пригородом, содержится вся моя будущая непрожитая жизнь, все, чего мне не удастся сделать. Уже тогда я подумал, что это, возможно, признак преждевременного взросления. Мои родители, конечно, были уже недалеко от смерти, но еще не добрались дотуда, так что я не мог объяснить сон их отсутствием. Содержание этой непрожитой жизни не расшифровывалось, просто она была в чулане. Вывод из этого сна, не раз вспоминавшегося мне впоследствии, был такой: нас отчасти формирует то, от чего мы воздерживаемся, что мы по характеру своему исключаем раньше, чем оно могло бы случиться. Сколько-то лет, назад, работая над Биозондом Барри Голдуотера,[7] я встретился с девяностолетней немкой, по понятным причинам жившей с 1946 года в трейлере посреди аризонской пустыни. Мой сон указал бы на то, что ей следовало перебраться туда раньше, скажем в 1934 или 1935 году. Она была ботаником и по случайности знала кое-какие работы моего отца, посвященные генетике диких растений. Когда я ответил на ее вопрос о моем роде занятий, в глазах ее выразилось неприятие, как если бы я накручивал на палочки сахарную вату на провинциальных ярмарках. Но главной причиной моего смеха была долгая вечерняя прогулка от «Каджу» возле Девятнадцатой улицы до Семьдесят второй и на восток, к реке, где находится моя нью-йоркская квартира. Для сведущих: я живу недалеко от владений Джорджа Плимптона.[8] Официально мы незнакомы, но, случалось, кивали друг другу на пристани, когда любовались проходящими буксирами и другими судами. Словом, во время этой долгой прогулки я наблюдал лимузины и таункары, принимавшие и высаживавшие у дорогих ресторанов группки богатых бизнесменов. Не совсем понимаю, что показалось мне вдруг смешным в моем собственном «классе», в людях, получающих, скажем, три сотни тысяч в год или скорей даже зарабатывающих полмиллиона с лишним. Я имею в виду — не с унаследованного капитала, а зарабатывающих собственным трудом, в основном белых, и не включаю сюда актеров, музыкантов и профессиональных спортсменов. Верхний эшелон трудового народа — публика специфическая, но не могу сказать, что до этого дня я находил ее особенно комичной.
Любопытно, что мой брат Тад страстно желает быть одним из таких существ, но он просто не знает секрета, как посвятить этому всю жизнь. Не случайно, что уворованные у меня сто тысяч Тад ухлопал в тот же год на бирже и на десятипроцентную долю гениальной кобылки в Кентукки. Этих людей, членов моей социальной страты, моих братьев по семейству псовых, даже в самом добром настроении скалящих зубы тотального своекорыстия, — описывать их пространно сил нет. Рядовой представитель вида не может четко описать изнутри свой вид. И во время долгой прогулки до дому я разглядел моих братьев с небывалой ясностью; распознать их было легче, чем дипломата в магазине подержанных вещей. Эта публика приступала к микроуправлению — правильное и безобразное слово — своими послеобеденными ветрами.
Я смеялся, когда включал кофеварку, заряженную, по обыкновению, накануне вечером, и смеялся над тем, что встал в девять тридцать, а не в семь, как всегда. Я не какой-то там бездушный робот, просто я не совсем знаю, что мне делать, кроме работы. За окном несколько интересных кучевых облаков, в теплое утро довольно красивых. Как они собираются в кучи, вместо того чтобы распадаться? Позвонив сестре, я немедленно получил бы информацию, но в это утро сама мысль о полезной информации вызывает у меня отнюдь не комическую дрожь. Наблюдая, как стрелка часов подходит к десяти, я спросил себя, сколько в моей прошлой жизни наберется того, что можно считать личным, но отмел этот вопрос, позвонив в мой любимый винный магазин и заказав ящик «жигонда», которому отдал должное накануне вечером, и пачку сигарет — продукта, к которому не прикасался уже лет десять. Мне надоело быть на правильной позиции по каждому вопросу, поднятому в передовицах «Нью-Йорк таймс». Я вполне владел своими чувствами — вообще говоря, вполне непокорными. Установившаяся в последние годы среди белых мода на кризис раннего, среднего и позднего возраста всегда казалась мне признаком душевной потертости, неспособности увидеть, что за углом всегда есть другой угол. У примитивных обществ — круги. У нас — углы.
Для меня было очевидно, что я знал, что попытаюсь позвонить Синди, знал до того, как это стало сознательным актом. Мой утренний смех был порцией кислорода от не такого уж простого телефонного звонка, пусть и неудавшегося. Сейчас в ходу понятие «зацикленность». Этой зимой в Чикаго я перестал встречаться с миловидной и умной женщиной, в прошлом манекенщицей, из-за того что она постоянно употребляла подобные слова. В нашей повседневной речи десятки таких словесных говяшек, и я не собираюсь приводить примеры, хотя самое плохое — «оздоровление», к которому прибегают всякий раз после того, как дюжину школьников расстреляли из автоматической винтовки. Однажды вечером я разговаривал со знаменитым переводчиком в кафе «Селект» на Монпарнасе, и он сказал, что в современном французском тоже можно найти эти гниющие наросты, но находят их обычно люди, снедаемые глупой искренностью.