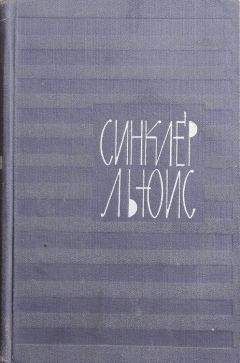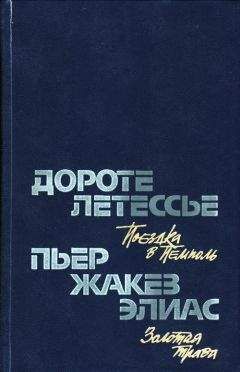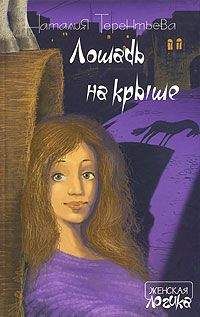Но сегодня я вовсе не огорчен. Выпрямившись, заставляю себя широко улыбнуться и спешу напрямик через поле, чтобы побыстрее выбраться на дорогу и догнать повозку с нашими пожитками.
2
Да, нынче у меня замечательное настроение. Утром, во время последнего лагерного завтрака (мы уже не имели права есть вместе с заключенными), возле раздаточного окна я сошелся со знакомым мне по лагерной санчасти преподавателем философии одного известного университета. Его тоже должны были освободить, и он дожидался заявки от какого-нибудь госхоза.
— Что, Чжан Юнлинь, уезжаете?
На нем была форменная лагерная куртка вся в пятнах и подтеках на груди, но держался он с неподдельным изяществом и дружески пожал мне руку. И слова и жест его были из какой-то иной жизни. Я мгновенно перенесся в тот, когда-то столь близкий мне мир. У раздаточного окна, в грохоте лагерной кухни я тоже старался выглядеть и говорить как подобает истинно воспитанному человеку.
— А ваша книга... Как быть с ней? Вернуть ее вам?..
— Нет, не стоит. — В одной руке у него была суповая миска, а другой он сделал протестующий жест — так на вечеринке отказываются от коктейля. — Это мой вам подарок. Может быть...— В его взгляде мелькнуло некоторое превосходство. — Может быть, прочитав эту книгу, вы поймете, почему с нами случилось все это.
— С нами? Вы имеете в виду вас и меня или... — Я оглядел толпу заключенных, дожидавшихся еды. Кто-то жаловался, что повар наклоняет черпак, и яростно требовал долить ему миску до краев. — Или... нашу страну?
— Запомните... — Его палец уперся мне в грудь (моя куртка тоже вся в огромных пятнах от супа); он говорил с характерными интонациями преподавателя: — Наши судьбы неотделимы от судеб нашей страны!
Меня поразило, как он это сказал. Здесь, где свобода была угнетена до предела, его мысль парила, ничем не стесненная. Мечтая, чтобы это пиршество духа длилось и длилось, я все-таки время от времени бросал взгляды на раздаточное окно (к нему нельзя опоздать, уж если оно захлопнется, то повар в наказание оставит тебя голодным; а если и умолишь его, то порция все равно будет неполной), но продолжал говорить ему с подобающей серьезностью:
— К сожалению, первая глава дается с трудом. Эта диалектика... эти абстрактные рассуждения о возникновении стоимости товара.
— Читайте Гегеля!
Этот совет был подан таким тоном, словно в моем распоряжении целая библиотека и я могу читать что пожелаю. Он нахмурился:
— Гегеля прочитать необходимо! Совершенно необходимо. Марксизм неразрывно связан с гегельянством. Прочитав Гегеля, вы легко усвоите первую главу «Товар». Тогда у вас не будет сложностей ни со второй главой, ни с третьей, ни даже со вторым отделом — «Превращение денег в капитал».
— Да, да, конечно,— я вежливо закивал. Мне часто приходилось видеть, как институтские преподаватели вот так вежливо кивали друг другу.— «Предисловие» уже увлекло меня. Жаль, что раньше я читал только беллетристику...
Наша высокопросвещенная беседа завершилась как раз вовремя. Едва он отошел, бережно унося свою миску с похлебкой, я метнулся к раздаточному окошку и сунул внутрь свою консервную банку; повар уже собрался захлопнуть ставень.
— Где тебя носит, мать твою!..
— Помогал грузиться в дорогу. — Я изобразил смирение, а потом заискивающе улыбнулся: — В последний раз ем.
— А-а, — повар оглядел меня и добавил к причитавшейся порции добрых полчерпака.
— Спасибо, спасибо! — Я суетливо закивал головой.
— А ну, постой. — Другой повар, постарше, вытер пухлые, распаренные руки, подошел к окну и уставился на меня. — Значит, тебе, сукин ты сын, удалось выскочить аж из самой что ни на есть могилы?!
— В самую точку попали! — Его свойский тон удивил меня и родил в душе несбыточные надежды.
— Нелегкое, скажу тебе, дело! — Я не верил своим глазам: прямо от окна он дотянулся до котла, достал пару вчерашних просяных лепешек и, буркнув «Держи!», шмякнул их в мои похожие на куриные лапки ладони.
Не дожидаясь благодарности, повар с грохотом захлопнул черный скрипучий ставень. Что им чужая признательность, у них уши вянут от каждодневных благодарственных речей. Вот уж воистину «Слава предкам!»... В моей жестянке полуторная порция овощной похлебки, да еще две просяные лепешки. Две! Это вам не одна! На целый день хватит: утром — одна, вечером — другая. А какова похлебка — наваристая, густая, что твоя каша!
Заполучить похлебку погуще — эта задача постоянно занимала наши умы. Положив в котел соль, похлебку могли или перемешать, или оставить как есть. Повара твердо усвоили, что следует исходить из собственных потребностей. Если перед раздачей они перемешивали похлебку, то вся гуща оказывалась на поверхности, и первые в очереди ликовали: «Слава предкам!» Если повара медлили и гуща успевала осесть на дно, радовались те, кто стоял в хвосте очереди. Последнее обычно происходило, когда сами повара не успевали поесть перед раздачей — и тут они и оставляли осевшую гущу себе «на потом». Повара мечтали, чтобы мы побыстрее закруглялись с едой — они раньше освободятся, Никто никогда не знал заранее, какое настроение сегодня на кухне. Кроме того, нас, едоков, очень много, требовалось десять огромных, в человеческий рост, деревянных бочек, и было невозможно пронюхать, в какой именно припрятали повара для себя лакомые кусочки. Словом, получить гущу труднее, чем предсказать мировой экономический кризис, можно уповать только на удачу, на везение.
Сегодня мне повезло. И это произошло как раз тогда, когда я начинаю новую жизнь. Не правда ли, добрый знак? Так что я вполне счастлив.
3
Честно сказать, я всегда съедал больше других заключенных, особенно если давали похлебку, а не лепешки — тогда мне удавалось заполучить граммов на сто больше. Весь фокус в моей консервной банке.
С того весеннего дня 1959 года, когда нас перестали кормить рисом и перешли на похлебку, в лагере возникло поветрие использовать для еды миски побольше — чашки вскоре вообще вышли из употребления. Повара накладывали порцию за порцией с такой скоростью, что в чашку попадало далеко не все: что-то оставалось на дне черпака и возвращалось в общий котел — чистый убыток; зато в широкую посудину из черпака выливалось полной мерой. Умывальный таз слишком велик, его трудновато просунуть в раздаточное окно, хотя уж в такую-то емкость попадет вся еда, без потерь. Значит, требуется что-нибудь поменьше умывального таза, но побольше чашки — скажем, детский тазик. Время стояло нелегкое, и, конечно, со всякой посудой было туго. Впрочем, Начальник исхитрился-таки. Я думал, что он давно перетаскал все из своего универмага к себе домой. Его жена, которая каждый месяц навещала мужа и была такой же мерзкой, как он, предлагала то одному, то другому из нас «устроить» детский тазик. Конечно, они ничего не делали «за так».
Он постоянно хвастался передо мной тем, что и здесь, в лагере, он по-прежнему сохраняет «худо-бедно кое-какие ходы-выходы там, на воле». Как паук раскидывает свою паутину и ждет, пока попадется мотылек, так и он ждал, что я попрошу его о чем-нибудь.
Иногда он принимался гримасничать, балагурить, только бы вызвать у меня улыбку, но я упорно не попадался на его уловки. У меня не было и медяка за душой, я не получал с воли продуктов, ничего, чем можно было бы оплатить услуги этого торгаша. Моя мать жила в Пекине из милости у чужих людей, перебиваясь тем, что плела веревочные кошелки, и едва зарабатывала десять юаней в месяц, было бы бессовестно требовать от несчастной старухи каких-то посылок. И я устраивался сам как умел. У меня была с собой двухлитровая банка из-под американского сухого молока, единственное свидетельство моего буржуазного прошлого. Я обмотал горловину проволокой, сделав ручку, и жестянка превратилась в подобие котелка. И хотя отверстие у моей посудины было не больше чашки, так что часть похлебки проливалась мимо, но выручала глубина — в самодельный котелок все равно входило больше, чем в любую миску. К тому же поварам казалось, что они меня обделили, и мне всегда добавляли еще немного. И это «немного» бывало поболее того, что проливалось мимо.
Всякий раз, отходя от раздаточного окна, Начальник словно нарочно демонстрировал мне свой новенький детский тазик с нарисованным на нем котенком. Я без труда заметил, сколько там обычно похлебки — как раз на полкотенка. Однажды, когда все ушли на работу (меня освободили по болезни), я налил в свою жестянку ровно столько воды, сколько в нее влезало похлебки, и перелил потом эту воду в его тазик. Эксперимент неопровержимо засвидетельствовал: мне достается граммов на сто больше! Вода замочила даже поднятую лапку, в которой котенок держал полотенце.
Эти сто граммов были результатом умелого использования несовершенства человеческого зрения.