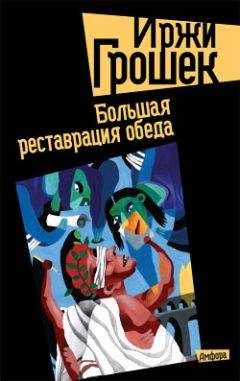— Нет, это не конюшня. Это человек, — откровенно сияя, сказал он, когда полчаса спустя, мы раздевались за дырявыми стенками душа, — и если взять его в хорошую обработку, из него может получиться парень, ну если не на «ять», так, по меньшей мере, на «е». Что вы скажете, ведь он был прав, нет? Он был прав и вообще и в частности!
Резиновая трубка, завязанная узлом, висела над его головой. Он развязал ее, танцуя от нетерпения, и холодная вода упала на его бритое темя.
Он стоял под душем, кряхтя, разглаживая курчавую растительность семита.
— Он был неправ, — сказал я, — и вообще и в частности. Если же вы думаете, что он был прав, займитесь чем-нибудь другим, забудьте о рационализации быта. Ведь вы же не рационализатор быта! Вы просто честный молодой еврей, мечтающий о том, чтобы превратить кооперативную столовую в рай. Вот уже несут второе, а там третье, ай, ай, как хорошо! Что касается Дерхауса, так я очень жалею, что этот рулевой не дал ему по шее…
Конференция уже началась, когда мы явились в палатку, охрипшие от двухчасового спора.
Вокруг двух ламп, свет которых едва доходил до конусообразного неба, сидели люди, и докладчик, выговаривавший «эр» как «эл», рассказывал о своих неудачах.
У него были густые брови, редкие молодые усы, и он, без сомнения, не спал ровно столько ночей, сколько мог не спать, и еще две или три.
Толстый панцирный жук упал на листочки, лежавшие перед ним; он машинально взял его в руки и, должно быть не видя, что делает, опять положил на листочки…
Я выглянул в окно — палатки были синие, и флаг метался над освещенным луной полотнищем.
Метался над освещенным луной полотнищем флаг сон шел по табору, потягиваясь, почесываясь, зевая, шел и дошел до нас и остановился перед опущенным пологом палатки.
К нам он не мог войти, у нас горели лампы, люди сидели за длинным столом, и докладчик, говоривший «трлидцать га» и не спавший ровно столько ночей, сколько мог (и еще две или три), рассказывал о том, как он добился удачи…
Иля толкнул меня в бок.
— Послушайте, — сказал он шепотом. — Кто-то орет. По-моему, это Дерхаус.
Черный кулак влюбленного рулевого вспомнился мне, пока мы осторожно удирали из палатки. Дерхаус все орал, но как-то слабо.
— Его чем-нибудь тюкнули, эту старую лошадь, — сказал я и побежал.
Коломянковые штаны Или Береговского мелькали уже так далеко от меня, что я едва поймал их неясный силуэт где-то под маяком, горевшим посреди участка.
Когда мы пришли к маленькой односкатной палатке, подле которой толпились полусонные люди, Дерхаус уже не орал.
Лепеча что-то, он стоял без штанов, в одной рубахе, едва прикрывавшей тощие ляжки.
Он был без штанов, и его унылая морда была так расстроена, что мы с Береговским, даже не спросив ни кого, что случилось, в чем дело, так и покатились со смеху.
А дело было плохое!
Босая, простоволосая, страшная — мне показалось, что за полдня и полночи она постарела лет на десять, Катя ходила перед Дерхаусом и кричала.
Она ходила, упираясь руками в бока, выставив грудь, и безнадежной усталостью было отмечено ее потемневшее лицо.
А Дерхаус стоял в одной рубахе и не смел уйти.
— Собака! — кричала Катя. — Ты меня стыдил! А сам что делать хотел? Сам ко мне в палатка пришел! Ты думал, я деньги брал? Собака! Я потому того-другого в свою палатка пускал, что пожалеть хотел. Один-другой ходит-ходит, у него жена нет, я его жалел. Я женатый от себя вон гнал. Один баба на участка — ему плохо жить. Его тоже жалеть надо. А ты, собака, я на тебя плюнуть хотел!
И она плюнула ему в глаза…
Наутро мы с Илей сидели в столовой Зерносовхоза 3, и пиво — безвредное солодовое пиво, напрасно притворявшееся старой Баварией, — в толстых стаканах пенилось перед нами на столе.
— Ну, конечно, это конюшня, — пробормотал Иля, — это не человек. Я даже не верю, что он хороший механик. Он барахло! И вообще и в частности.
Я посмотрел на него и рассмеялся.
— Да здравствует жизнь! — сказал я. — Еще не такая, какой она должна быть, но имеющая все основания стать такой, какой она должна быть!