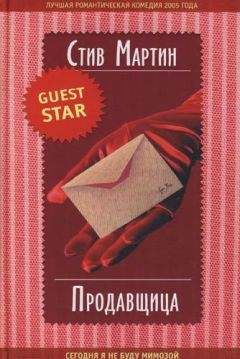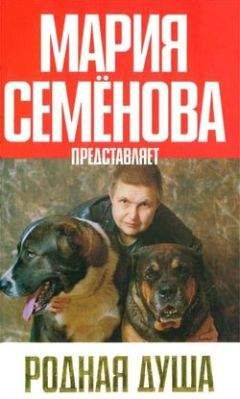«Спишь? — надо мной (разом затмевая зазеркальный/заоконный черно-бело-голубой барабан) наклоняется бессветный шалаш из свисших волос, щекочущих щеки. — Морсу хочешь?» Я не хочу морсу, он холодно липнет к дыханию. «Чаю?» Я не хочу и чаю, он жжет внутренность горла и воняет морской травой. Я хочу новую грелку к ногам и поскорее заснуть. Она присаживается боком на щелкнувшие с отзвоном пружины кровати и приставляет мне ко лбу и к глазам свою недосжатую ладонь, еще пышущую борщовым паром. Отдергивает — ресницы щекочутся. Если бы сегодня пополудни мой нос не заложился козявками (в глубине носоглотки густо-слякотными, кровянисто-зелеными, а ближе к выходам ноздрей зачерствевшими до черных корочек), то я бы услыхал от тыла ее ладони слабоудушливый запах маминых польских духов «Быть может», которых отчим четыре года назад привез с гастролей в городе Цыганомань Калмыкской АССР два ящика — все, что было в тамошнем парфюмерном магазине. Калмыки их не употребляют — чересчур дорогие и чересчур сладкие. В той калмыцкой Цыганомани, рассказывал отчим, не только что пить, но даже и есть нечего, простого хлеба даже нет — сплошная икра зернистая и паюсная да кволая осетрина оковалками. И «Быть может». Она вздыхает. Кровать вздыхает звонче. Шажками двух осторожно покалывающих пальцев — будто циркулем «козья ножка» — ищет под самым нижним одеялом грелку, от ног вверх — я с извивом передергиваюсь, грелка скатывается с живота; отыскивается. Дверь, было за нею захлопнувшись, снова с кратким скрежетом приоткрывается. Удлиняющийся треугольник кухонного света вдвигается в комнату и смешивается надо мной с голубоватым с моря. Из скрипичного футляра, неглубоко под кроватью лежащего на полу, к месту их пересечения тянется помятый угол «Каприсов» Паганини, М., «Музгиз», 1947 г. — как у матроса-балтийца из-под бушлата забрызганный черной кровью треугольник тельняшки. Двубашенный хозяйский буфет поблескивает в застекленной середине разномерной парадной посудой. Когда нас нету дома, Раиса Яковлевна, хозяйка, приходит и пересчитывает тарелки, и блюда с синим кузнецовским клеймом на исподе, и черные петровские стопки. Их три. Они здесь всегда жили, даже при царе и белофиннах. Шепотом: «Тише, не спит же еще. Яник, кончай, — как маленький, ей-богу. Хочешь, я воды согрею, все равно на грелку надо, какая разница, сколько греть, — после ужина оботрешься. Кто их знает, когда они еще баню соберутся топить; Яшка с малым и дров-то не кололи…»
— Ничего, в Ленинграде помоемся. Автобус завтра в девять семнадцать от военморгородка, а в шестнадцать ноль-ноль мы уже отмокаем в родимой ванне, как пламенный друг народа крейсер мой бедный «Марат»! — недовольно отзывается Перманент сквозь треск и завыванье помех, но руку убирает.
— …Ты что, прямо уже завтра назад хочешь? А я почему узнаю это только сейчас?! Что же борщ… и так дальше?.. …Ой, а междуцарствие?
Голос у нее делается вкрадчивый, мягкий, скандальный. Ей нравится, что еще три года назад она была ученица Язычник, что, подняв к полуциркульному классному потолку озабоченное круглое лицо и сцепив под передничком руки в свободных маминых кольцах, рассказывала кивающему из-за стола в окошко Якову Марковичу про переход количества в качество и обратно, а сейчас как не фиг делать может ему голову намылить. Вдруг она вскидывается раскаянно: «Ты это что, из-за мальчика, да? Что он болен? Так ему с ангиной тоже неизвестно еще, хорошо ли четыре часа в автобусе?.. А до остановки как? На лыжах, что ли, с его температурой? Или его на санках? …А что я бабушке Циле скажу? Вещи собирать…» Про «качество и количество» я еще, правда, не все знаю, зато «отрицание отрицания» — это плюс, потому что плюс — это перечеркнутый минус.
— Тише ты, дура, тише! При чем тут здесь? Я сегодня в церкви совершенно случайно кое-что такое слышал… — ну неважно, одним словом: скоро тут может стать очень, очень неприятно. …Вещи, какие можно, оставим пока — дядя Яков подкинет, как в Ленинград поедет. — И его голос снижается до неслышимости.
— Чушь собачья! — заявляет Лилька и в один шаг с оборотом отступает к плите.
А отчего не возвращалась еще с работы хозяйка? Я б услыхал скрип лестницы, как она, переставляя со ступеньки на ступеньку матерчатые кошелки, заткнутые газетой «Красная звезда», подымается вслед за ними, медленно и грузно, к себе на второй этаж. Она на заставе вольнонаемная повариха. Полуидиот Яша, улыбаясь, красными костяшками полусогнутых пальцев деликатно подталкивает ее снизу в поясницу и бормочет-поет: Ах матка, ах матка, ступенька, гляди, сказал кочегар кочегару… и: Сеструхи, насыпьте братишке борща, сказал кочегар кочегару… Наш дядя Яков Бравоживотовский, кавторанг хозяйственной службы, устроил его на полставки в гараж — катать баки с соляркой и двигать туда-сюда бронебойные ворота с выпуклыми звездами, крашенными бронзовой краской. За это они нам сдают. К себе на базу ВМФ дядя Яков не мог, потому что Яша с тридцать девятого года и, значит, жил под финской оккупацией, а в погранзону у них допуск как у жителей. На заставе ужин в восемь — значит, давно начался, а посуду ей мыть не надо: у всех пограничников собственные котелки, неизводимо пахнущие солидолом, и алюминиевая ложка за сапогом — в личное время они сами оттирают ее с помощью песка и снега. Если у них мальчик пропал, чего же в милицию не заявляют? Или они заявили? В зашлагбаумном поселке ее зовут Райка-Жидячиха, но она русская, это у них фамилия такая странная: «Жидята» — как «опята». Я у них наверху еще ни разу не был — одна из трех ее старых дочек всегда дома. Две другие днями возятся в дощатой времянке сбоку от пакгауза, где у них летняя кухня и живут блеклые куры с молчаливой козой, варят там что-то, стирают или куют, а едва как стемнеет, подымаются к себе на второй этаж и больше никогда не сходят, и зеленые ставни с вырезными сердечками у них постоянно закрыты. Там, наверху, они иногда неразборчиво что-то поют; наверное, пьяные. Сейчас — нет, только иногда переходят, как слоны, с места на место, роняя мне в постель полумесяцы штукатурки. Поэтому я за оба лета так их и не выучился различать и не знаю, чей он из них сын: все три веснушчатые, белесые, в подрезанных солдатских сапогах, с толстокостыми замерзшими коленками, в негнущихся серых платьях, в вязаных кофтах, застегнутых до подбородка, и в подвернутых за уши холщовых платках. Если мне в школе скажут «жид», я с разлета стучу по хлебалу. Как не фиг делать. Если «еврей» — тоже, потому что они это имеют в виду. На последнем развороте журнала, где список, есть столбец «национальность» — меня легко там отыскать, я самый последний, на букву «Я». Все давно и так знают. Пуся-Пустынников из нашего класса так откровенно и сказал: А еще еврей называется, когда я в туалете хотел за пятьдесят копеек продать пласт жевачки, который мне подарила двоюродная бабушка Фира, потому что невестка Бешменчиков была с профсоюзной экскурсией в Польше, а какой-то намертво причесанный третьеклассник с синевой под глазами спросил: а она дуется? а я ответил: не знаю, потому что не пробовал; тогда он застегнул ширинку и ушел к себе на урок, а Пуся-Пустынников, который сидел на подоконнике и, снимая белым кривым мизинцем табачинки с языка, курил сигарету «Астра» без фильтра, презрительно хлопнул себя пухлой ладонью по широкому белобровому лбу и так и сказал: А еще еврей называется. Все фоняки так думают, что все евреи от природы умеют делать гешефты, говорит двоюродная бабушка Бася. Дрек мит фефер они умеют делать, а не гешефты! Твой отчим, — мало ему было, клязьмеру несчастному, в оркестре Бадхена играть на треугольнике, — так он тоже решил, что он да умеет делать гешефты… Бедная, бедная Женичка… Яков Маркович называет маму — когда я не слышу, — что она «декабристка». Но это же, кажется, по истории СССР положительно?! Кроме того, она оставила на меня тысячу рублей, и двоюродная бабушка Фира, которая была до пенсии замдиректора по сбыту объединения «Красный пекарь» («Пресный какарь», шутит Перманент) выдает Лильке по сколько-то ежемесячно на одежду, питание и досуг. Тыща рублей, мамочки родные! — таких денег даже сразу и не вообразишь; как выглядят «червонец» и «четвертной», я издали знаю, но купюру больше «трояка» ни разу в руках не держал. Однажды я видел ввосьмеро сложенную пятидесятирублевую — это когда по секрету от двоюродной бабушки Цили дядя Яков показывал мне свою «заначку» под правым погоном летнего парадного кителя.
Начинают дробно дрожать губы и плечи. Мне холодно под семью пограничными одеялами — бесшерстными, серыми, с двумя узкими черными полосами вдоль коротких концов на каждом. Четыре на семь — итого двадцать восемь полос. Вдруг мне кажется: кто-то неслышно заходит в пакгауз с улицы, не зажигает в сенях света, стоит, покачиваясь на носках неопределенным сгущением — выбирает, куда дальше: наверх, к хозяевам… прямо, к Перманенту и Лильке на кухню… или налево, сюда, ко мне. У него лицо, как у волка, черная шляпа и длинная седая борода. Я так и представлял, когда был маленький, еще в коммунальной квартире, до того, как мы обменялись с доплатой, — но там-то коридор длинный-длинный, с тремя поворотами и расширением на месте бывшей комнаты Кириницияниновых, которую не могли решить, кому отдать, и сломали; и когда мама с отчимом уходили на кухню разговаривать с соседями, а Лилька, стулом с распяленным школьным платьем отгородившись от трех сросшихся шаров уличного фонаря и свесив с раскладушки белую лягушечью ногу, спала уже — как убитая — между долгоовальным обеденным столом (всегда накрытым желто-зеленой скатертью в тканых ромбах) и моей затененной (в изголовье буфетом, а в изножье пианино) тахтой, я всегда представлял его, как он отталкивает снизу плечом кем-то (вдруг мной? — обжигающий прочирк в подложечке) неплотно захлопнутую парадную дверь, входит в треугольную прихожую, где лыжи, сундуки и барабанная установка со страшно фосфоресцирующей славянской вязью на главном барабане, потом поворачивает мимо Фишелевых, полуотдельно живущих у выхода, и, светясь глазами, неотвратимо приближается на слегка цокающих когтях по бесконечно бессветному коридору с дальним отсветом кухни в самом конце — мимо всех темных дверей, подчеркнутых светом изнутри, мимо всех смутно лучащихся замочных скважин — мимо Настеньки (это не ласково, а иронически), у которой я украл стеклянный шарик с комода и был страшный скандал, — мимо сумасшедшей (чем — не понимаю) Любови Давыдовны с умирающим (от чего — не знаю) мужем Петуховым, — мимо алкоголика Мишки, который в добела стертом кожаном пальто, доставшемся ему в блокаду, и в навечно заляпанных слякотью гамашах без галош стоит сейчас внизу на Колокольной улице с проще одетыми друзьями, — мимо Рывкиных, у которых единственный на квартиру балкон-лоджия и сын Рафа играет в вокально-инструментальном ансамбле «Русичи», и — наконец — мимо заслуженного малооперного артиста республики Винниченко (я видел, как он танцует в «Докторе Айболите» партию жирафа, выглядывая из плексигласового окошка посередине жирафьей шеи, ломко покачивающейся и сморщивающейся при прыжочках). Все ближе, ближе… — сейчас я услышу его шаги и его дыхание у самой нашей двери. Или это мама идет поглядеть, как мы с Лилькой спим? «Куда тебе грелку, к ногам?»