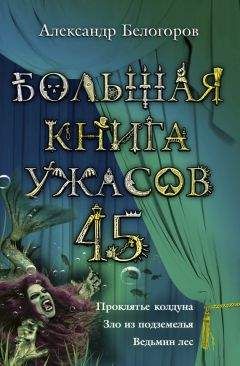— Куда мы едем?
— М-м-м?!..
— Куда мы едем?!!
Отвечает скороговоркой, неразборчивой, как объявления на вокзале. Ничего, допустим, поняла. Когда мне нужно, я все понимаю.
— А сейчас где?
— Что?..
— Какая следующая станция?!
Называет. Большой город, областной центр, оттуда родом каждый пятый, и даже муж Таньки Самсоновой, если я правильно помню. Запросто — случайная встреча, знакомые общих знакомых, кто-то узнает, кивнет, окликнет, информация пойдет с нарастающей скоростью взрывной волны — и так будет, потому что все, что может случиться, случается непременно, катализированное силой твоего же неприятия и отвращения. Не пойдет. Не туда.
— И раньше нет ни единой станции?
Спросила спокойно. Так, что ему стало по-настоящему страшно.
— Есть, конечно, — залепетал быстро-быстро, пришепетывая, — вот, например, через семнадцать минут Поддубовая-5, только поезд там не…
— Остановите, я сойду.
Развернулась и вышла, не дожидаясь ответа, никого не убив напоследок. Остановит, куда он денется, сам рванет стоп-кран, только бы избавиться от меня как можно скорее. И купе, вагон, да весь поезд хором вздохнет свободнее, как только меня не станет, так было всегда и везде, и лучшее, что я могу сделать для обитаемого мира, — это устроить так, что меня в нем не будет. Милость с королевского плеча. Красивым широким жестом, как падает на землю шелковый шарф или разлапистый кленовый лист.
В купе уже не было никого, тетка воспользовалась передышкой и слиняла, как оживший труп, туда ей и дорога. Моя длинная сумка с ремнем, купленная сто лет назад в Париже, живет по законам пятого измерения, в нее помещается все, а на вид и не скажешь. Схватить с полки и бросить на плечо; но ведь еще семнадцать, пускай пятнадцать, минут — рано, жди, — бывает ли что-то невыносимее ожидания, чем короче и нелепее, тем тяжелее и бессмысленнее? Если б сейчас заглянул в купе проводник или кто-нибудь из попутчиков, меня бы, наверное, по-настоящему пробило. Но никто не заглянет, вот и замечательно. А может быть, удастся что-нибудь с собой сделать, и пробивать больше вообще не будет. Никогда. И к лучшему, потому что оно давно бесплодно и лишено всякого смысла.
В окне мелькали стволы и листья, темно-зеленые вкрапления елей и сосен, и ни малейшего признака человека — она совсем маленькая, наверное, эта станция Поддубовая-5, а ведь могут и проскочить, не сделать остановки. Правильнее будет ждать у выхода, возле проводницкого купе, не давая забыть о себе или надеяться на пощаду. Распрямила плечи, поправила сумку, сделала резкий разворот. Прямо на зеркало.
Мое лицо внезапно — не для слабонервных. Не для меня.
Усмехнулась навстречу хищному носу и рубленым скулам, и глазным ямам с черным огнем на дне, и сведенным в изломанный мост совиным бровям, и кинжальным насечкам на щеках. Стала похожа на усталую женщину — а если чуть повернуться в полупрофиль к свету, то и красивую, я всегда умела выгодно выставлять свет. Коротким движением отбросила назад гриву, мою жесткую чернобурку, поседевшую еще до тридцати, непроглядную соль с перцем, которую стоит только начать красить, чтобы признать безоговорочное поражение в моей войне против всего и всех. Не дождетесь. И не догоните.
Проводник предупредил о краткости стоянки, еще о чем-то, он все бормотал и бормотал, будто рассчитывал заговорить смертника с бомбой, страшную болезнь или бурю. Я привыкла, что меня все ненавидят и боятся, я сама все для того делаю, вернее, оно получается само, без ощутимых усилий. Пускай. Это гораздо лучше, чем когда просто ненавидят.
Поезд рванулся, дернулся, встал. Проводник потерял равновесие, взмахнул руками, за приотворенной створкой его купе с жестяным грохотом посыпались на пол подстаканники. Лес в окне поредел, расступился, впуская в себя занозу низкой постройки под шиферной крышей.
Станция Поддубовая-5.
* * *
— Маринка хорошая. Только она звереет.
— Как звереет?
— Как зверь… зверюшка. Девочки — зверюшки, да? Кричит, и царапается, и все ломает, игрушки даже, и машинку зеленую. И кусается еще!.. Вот. Зубы!
— Ничего себе! Больно?
— Не-ет. Раньше было, а сейчас зажило почти.
— А почему она?.. За что?
— Просто так. Позверела.
— Из-за чего?
— Не помню…
— Алла Николаевна, и такой вот ребенок ходит у вас в группу вместе с нормальными детьми?
— Я неоднократно поднимала этот вопрос. Но там мать-одиночка, льготная категория, вы же понимаете. Необходимо медицинское освидетельствование, вывод комиссии, а никто не хочет брать на себя ответственность… и видели б вы ту маму, несчастная женщина…
— Очень может быть. Но я не допущу, чтобы мой ребенок, чтобы все другие дети… Вы доиграетесь до подсудного дела! Я требую: эта девочка не должна больше посещать коллектив! Иначе…
— Маринка хорошая! Она придумывает! Мы играли в страну, там города, и речка, и море, и машинки, и солдатики танцевали! А она была волшебница, и замок строили еще! В песочнице! Во-о-от такойский! Я не хочу, чтоб она не посещала!! Не хочу-у-у!!!
* * *
Там, где есть станция, должны быть и люди. Иначе никто бы не строил. Простейшая, в один шажок, логическая цепочка. И просека в лесу: две разбитые колеи, топкие, залитые дождями, приподнятая подиумом вязкая середина между ними, все присыпано толстым лоскутным слоем упавших листьев — никто здесь уже целую вечность не ездил и даже, наверное, не ходил пешком. Но ведь куда-то она все равно ведет. Она здесь одна, и это значительно упрощает выбор пути и маршрута.
Когда идешь по прелым листьям, чуть заметная вибрация в подошвах передает упругую полетность походке, скорость нарастает по спирали, естественная, как ветер. Никто не мог ходить со мной по лесу, разве что Яр с его балетным вышколом и безразмерными циркульными ногами, но когда это было, — а так все отставали, начинали материться и шумно дышать, возникать и нарываться. Но те леса, по которым мне приходилось бродить, быстро пасовали и сдавались, подбрасывая трассу, высоковольтную линию, забор частных владений, проплешину базы отдыха. Этот выглядел настоящим, способным не кончиться никогда. Возможно, так оно было бы лучше всего.
Просека постепенно сузилась, потемнела, почти перестав пускать небо сквозь встречные ветви над головой. А ведь здесь уже, пожалуй, не пройдет и тем более не развернется никакая машина. Постройка на станции, с которой я проводила вдаль посвистывавший с облегчением поезд, оказалась обманкой: шиферный лист лежал на двух с половиной полуразрушенных стенах, перфорированных насквозь, будто край кинопленки. Руины, поросшие желтым лишайником. Ни единой непристойной надписи, да и вообще никакой. Ни мусора, ни битого стекла. Подошва стоптанного ботинка валяется в углу единственной уликой, что здесь все-таки ступала некогда нога человека.
Но с призрачной станции шла в лес вот эта просека и, по человеческой логике, должна была куда-то вести. И вот пожалуйста: она тоже оказалась из породы призраков, ложных путей, какими моя жизнь всегда была пронизана во всех направлениях, словно сосудами с отравленной кровью. По большому счету, ничего удивительного.
Просека уже превратилась в дорожку без всяких колей, скоро она истончится до тропинки, все более узенькой, будто исток реки, а там и потеряется в подлеске, уйдет под землю. И дальше я пойду уже сквозь лес, напрямик, а вернее, петляя, путая следы. Не найдут. Теперь уж точно не найдут и не догонят.
Под сомкнутыми влажными кронами все больше меркло, мглилось, проползало промозглым холодом под свитер; с ума сойти, плащ-то остался в купе, надо ж было только сейчас спохватиться. Свитер толстый, верблюжий, авторская работа Галки, вечно вяжущей тихой нашей костюмерши: огромная, в три отворота, горловина колется в подбородок, на груди сложный орнамент по мотивам цифири майя, подол, кольчатый, словно кольчуга, — чуть не до колен, а рукава намного длиннее моих рук и тоже подвернуты втрое. Но все-таки свитер — и ноябрь. А внутреннее топливо из фляжки с тигром уже выветривается, теряет горячительную силу и остальные свойства, господи, да неужели я протрезвею раньше, чем куда-нибудь приду? Вот так остановлюсь посреди леса — и задумаюсь, к примеру, о будущем?..
Тропинка — давно уже тропинка — поступила куда хитрее, чем я думала. Не исчезла, а, наоборот, раздвоилась ласточкиным хвостом, вильнула в разные стороны, оставив на перепутье живописное бревно с черной отставшей корой и бесчисленной порослью мелких грибов, ярко-желтых, ядовитых наверняка. И тут же, по совпадению или команде, оборвалась легкость моего полета, словно испустила дух на глазах горемыки-изобретателя очередная несовершенная модель вечного двигателя. И все равно непонятно, куда идти дальше, и в принципе невозможно куда-либо идти.