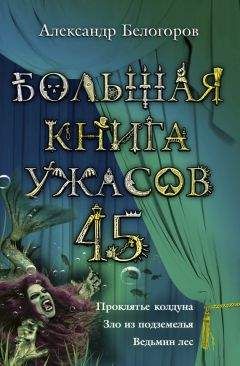Перекинула ногу, села верхом. В детстве, в юности, да и совсем недавно любое бревно подо мной легко превращалось в лошадку или оседланного дракона. Теперь — остается бревном, и уже ничего не поделаешь. Собственно, это и есть самое страшное из всего, что со мной случилось, чему я сопротивлялась в кровь, с чем билась на разрыв, из-за чего в конце концов и оказалась здесь; остальное — пена, плесень, грибная поросль с запахом гнили.
Лес молчал. Беззвучный шелест влажного листа, шорох притихшего ветра, падение одинокой капли. Эти звуки надо усиливать, вытягивать на звукооператорском пульте, чтобы они проявились, обнаружили свою тайную жизнь, как бактерии на стеклышке микроскопа. Голая улитка ползет по шляпке гриба. Морщинистая кора впитывает сырость и, поскрипывая, все сильнее отстает от древесины. Личинка жука точит сердцевину каштана. Сгущаются сизые облака, собирается дождь.
И ни одной мысли, ни одного воспоминания; предположений и планов тем более никаких. Непостижимое, фантастическое состояние, слово для которого люди давно придумали, а значит, с ними, с другими, происходит, случается, бывает — и, наверное, часто. Покой. Когда никого и ничего не хочется изничтожить на месте, сокрушить, и обрушить, и придумать, и взбудоражить, встряхнуть, гальванизировать, погнать вперед, заставить сделать хоть что-нибудь!!!
Правильно же, покой?
Наклонилась вперед, оперла локти о мягкую кору; та, как губка, тут же отдала накопленную влагу, промочила насквозь толстые вязаные рукава. Подбородок на ладони, прикрыть глаза, оставить только звуки и запахи. Запахи куда сильнее звуков, они, наоборот, преувеличены, заострены до предела: прелый лист, грибная сырость, холодная свежесть, дым далекого костра…
Дым?
Вскинула голову, огляделась по сторонам, раздувая ноздри, втягивая в них костерный запах, словно дорожку кокаина. Направление. Откуда?
Кустарник напротив, роскошный, сплошь усыпанный круглыми листьями, похожими на золотые монеты, затрещал, посыпался, раздался темной трещиной, выпустившей суковатую палку, потом корзинку и худенькую лиловую руку, и наружу выбралась девочка. Лет, может быть, девяти-десяти или двенадцати, кто ее знает, да и почему, встречая где-нибудь детей, мы тут же начинаем прикидывать, сколько им лет?
Увидев меня, остановилась напротив, точно на биссектрисе угла расходящихся тропинок. Поправила козырек наползающего на лоб картуза и поддунула прилипшую прядь.
Долго, почти до провиса в хронометраже, мы смотрели друг на друга.
Затем она подошла ко мне вплотную, присела на корточки и принялась срезать перочинным ножиком с бревна желтые грибы.
* * *
Вам правда интересно? Вам действительно нужно?
Познакомились мы лет семь назад, на одном проекте, сейчас уже и не вспомню, какое-то дикое мыло из жизни офисного планктона. Провалилось, кстати, с треском, но Марина-то ушла раньше, ее имени и в титрах не было…
Постойте, девушка, вру. Вам, наверное, как раз будет любопытно: мы же с Маринкой вместе в детский садик ходили! Недолго, месяца полтора, меня потом забрали оттуда, но я ее когда увидел, сразу узнал. Спрашиваю: детсад «Солнышко» в Академе? Она долго смеялась. Все допытывалась, как я ее вычислил, ведь знаете же, бывают люди, у которых детское лицо всю жизнь просвечивает, а она полностью изменилась, вы же, наверное, видели фотографии. Но вот так вот. Удивительно.
Значит, гнали мы это жутчайшее мыло. Совершенно за гранью, потому оно сначала было стыдно слегка, потом весело, стебно, а затем просто перестало задевать совершенно: делаешь свой кусок работы и едешь домой. Что? А, я диалоги писал. И должен был отсиживать полный день на съемочной площадке, потому что вечно ведь форс-мажор: то заболел кто-нибудь, то нужный реквизит не подвезли, то погода другая, и надо срочно все переписывать, адаптировать к обстоятельствам. А Маринку взяли вторым режиссером, на смешные деньги по сериальным меркам. Она была очень конкретно на мели, а они же сразу видят, сволочи.
Это уже потом просочилась информация, что у нее тогда мать умерла, причем буквально во время того скандала с «Мордой войны»: пускай вам кто-нибудь другой расскажет, не люблю передавать через третьи руки, а в общих чертах вы и сами в курсе. Но сначала никто не знал. То есть про «Морду»-то знали, конечно. Косились с самого начала.
Ее никто не любил. И даже я.
Знаете, как она умела? Когда она появлялась где-нибудь, все окружающие проникались к ней сильными чувствами во всем диапазоне, но сильными непременно. Бывают такие люди, доминантные, ничего удивительного. Но Марина… К тем, кто ее сразу ненавидел, она и относилась адекватно, с ответной и, главное, очень конструктивной ненавистью, в работе самое оно. А вот к тем, кто влюблялся в нее с первого взгляда, восхищался, стремился дружить и так далее, была по-настоящему беспощадна. Лучшие чувства пробовала даже не на зуб — на разрыв. Так, что действительно рвалось. Никто не выдерживал, ни один.
Конкретику… ладно, будет вам конкретика. У нас музычку писал один очень талантливый мальчик. Ну да, а кто, вы думали, пашет на таких вот проектах? Сплошь непризнанные гении, которым тоже, представьте, надо что-то кушать. И все они себе говорят примерно следующее: вот подзаработаю, поднакоплю, переживу трудные времена, а заодно потренируюсь в формате, даже прикольно, опять-таки профессионализм лишним не бывает, связями обрасту — и тогда… Честное слово, не слышал, чтобы кто-нибудь из них пробился. Ну да ладно. Мальчик был смешной, с кучей сережек в ухе, вечно в каких-то невообразимых лохмотьях и всегда с гитарой. Постоянно тусовался на съемках, хотя кому он там был нужен, композитор хренов, сдал свою музычку и гуляй. И во всех перерывах, провисах, когда группа на ушах, продюсеры орут, осветители с операторами бухают, — подсаживался к Маринке и пел ей свои песни. А песни у него… я никогда подобного не слышал, ни после, ни до. Брал какие-нибудь всем известные школьные стихи, чуть ли не «Чудное мгновенье» — и вытворял с ними такое невообразимое, почти на грани фола, но никогда не за гранью, органичное и прекрасное. Марина слушала. Ей нравилось, я видел.
А потом он исчез. Говорили, резал вены, говорили, подсел на иглу, черт, не записывайте, я принципиально не передаю сплетен. Но я сам видел — издалека, — как она на него орала. Наверняка из-за какой-то мелочи, ерунды, она же непостижимо легко срывалась с катушек, и, когда срывалась по-настоящему, это было очень страшно. У нее делались такие глаза… один раз при мне молоденькая гримерша реально упала в обморок от ее взгляда или от криков, не знаю. Вполне здоровая девушка. Она уволилась потом, это было уже, кажется, на «Студии-плюс», если я правильно помню.
Что мальчик? Встретил я его не так давно. Да нет, заметно живой, лысый, с вот таким брюшком. Мобильные телефоны продает. Может, оно и к лучшему, разве ж я спорю?
А с того проекта Марина ушла со скандалом, она по-другому ниоткуда не уходила. Продюсер потом пояснял, мол, некоторые пробовали тянуть профессиональный продукт, ориентированный на зрителя, в сторону мутного артхауса. На самом-то деле она ни в какой артхаус наше мыло не тянула, это было в принципе невозможно — просто пыталась придать ему хотя бы малейший смысл. Добиться от актеров естественных интонаций и реакций, не больше, от сценаристов — связной структуры, а от диалогов… К диалогам у нее тоже были претензии, да. И я переписывал; не знаю, как другие диалогисты. Но я-то старался, и потому ко мне она придиралась больше всех. Издевалась, глумилась, припоминала то и дело детсад, я уже не рад был, что сказал ей тогда, при первой встрече…
Кстати, у меня даже фотография сохранилась в детском альбоме. У нее, наверное, тоже такая была. Не видели? Подождите, сейчас принесу покажу.
…Вот. Меня-то вы сразу узнаете, все меня узнают, наверное, мало с тех пор изменился. А она — вторая слева в первом ряду. Правда же, какое чудо?
* * *
— Меня зовут Марина. Я хотела бы остановиться у вас переночевать.
Старуха глянула коротко, без интереса. Перед ней стояла громадная корзина каких-то сухих ягод или, может, орехов, а справа миска, куда она сбрасывала их, отсортированные и очищенные от листьев, черенков и шелухи. Увлекательное занятие, было бы странно, если б я сумела составить ему достойную конкуренцию. Старухины руки ни на миг не прервали движения, а глаза, безразлично скользнув по мне, вернулись контролировать его, хотя что она там видит, в этой темени…
Все это, конечно, раздражало, должно было вот-вот вывести из себя — закричать на запредельном звуке, опрокинуть корзину, схватить за плечи, встряхнуть, заставить!!! — но почему-то все не выводило, не пробивало, даже удивительно. Осмотрелась получше по сторонам: в густеющем полумраке темнел проем за старухиной спиной, светилось единственное окно в низком срубе, громоздились один на другом элементы бестолковой постройки, явно не раз и не два расширенной и дополненной, словно академическое издание научного труда. Все равно же я буду здесь ночевать, куда деваться ночью в лесу. Остальное — мелочи, несущественные детали.