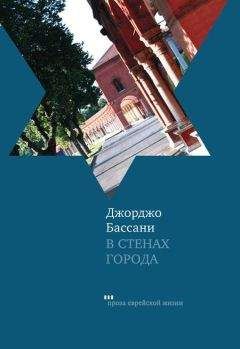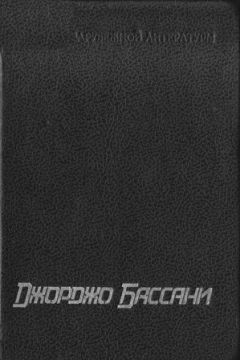Улица Салингуэрра — это маленькая улочка, извилистая и заросшая травой, начинающаяся от большой площади неправильной формы, которая возникла после сноса домов, и упирающаяся в городские укрепления недалеко от ворот Сан-Джорджо. Мы еще находимся в городе, совсем неподалеку от его средневекового центра: об этом свидетельствуют дома, в основном бедные и скромных размеров, но старинные, возрастом по три-четыре столетия, стоящие по обеим сторонам улицы, вероятно, самые древние в Ферраре. И все же если даже сегодня пройтись по улице Салингуэрра, то тишина вокруг (колокола церквей Феррары отсюда имеют какое-то особое, как бы удаленное звучание), а особенно запах навоза, вспаханной земли, конюшни, напоминающий о присутствии поблизости больших огородов, — все создает впечатление, что мы уже за пределами городских стен, в сельской местности.
Спокойные голоса животных — кур, собак, быков, — отдаленный перезвон колоколов доходили и вниз, в подвальный этаж, где Мария и Лида Мантовани работали для мужской портновской мастерской. Они сидели у окна, неподвижные и молчаливые, почти как серые предметы мебели — как стол, соломенные стулья, длинные узкие силуэты стоящих вместе кроватей, детская колыбелька, шкаф, комод, трехногий умывальник с тазом и кувшином воды, а позади — маленькая дверца в помещение под лестницей, где прятались кухонька и уборная. Обе женщины склоняли головы к шитью, поднимая их только изредка, чтобы переброситься парой слов, проверить, не нужно ли чего ребенку, посмотреть снизу вверх на улицу, на редких прохожих, или услышав неожиданный звонок колокольчика, подвешенного над узким прямоугольным проемом входной двери — чтобы, обменявшись взглядами, решить, кому из них идти открывать…
Прошло три года.
И, надо думать, много еще лет прошло бы вот так, без новостей и существенных перемен, когда вдруг жизнь, казалось забывшая о существовании Лиды Мантовани и ее матери, вспомнила их в лице соседа, некоего Бенетти, Оресте Бенетти, владевшего переплетной мастерской на улице Салингуэрра. Странная настойчивость, с которой по вечерам после ужина сосед начал навещать их, почти сразу приобрела для Марии Мантовани недвусмысленное значение. Да, думала она с волнением, этот Бенетти приходит из-за Лиды… Лида ведь еще молода, очень молода… Мать вдруг стала оживленной, энергичной, даже веселой. Никогда не вмешиваясь в разговоры между дочерью и гостем, она ограничивалась тем, что ходила по комнате, довольная, это было видно, что присутствует там, хотя и в стороне, ожидая совершения чудесного события.
Говорил между тем почти всегда переплетчик. О прожитых годах, — казалось, больше его ничего не интересует.
Когда Лида была маленькой, говорил он, «вот такого роста», она часто заходила к нему в мастерскую. Входила, приближалась к рабочему столу, поднималась на цыпочки, чтобы посмотреть на работу.
— Синьор Бенетти, — спрашивала она своим детским голоском, — вы мне подарите немного парафиновой бумаги?
— Конечно, малышка, — отвечал он. — А можно узнать, зачем она тебе?
— Да так. Хочу задачник обернуть.
Он рассказывал и смеялся. Хотя он и не обращался ни к одной из женщин в особенности, но взгляд его искал глаза Лиды. Внимание, сочувствие — вот что он хотел от нее. А она, глядя на сидящего напротив человека (у него была большая голова, соразмерная, правда, с крепким туловищем, но не с его невысоким ростом), а особенно — на его крепкие костистые руки, на туго сплетенные пальцы, чувствовала, что по меньшей мере во внимании она не может ему отказать. Глядя на него со сдержанной любезностью, она беседовала спокойно, с достоинством, но в то же время (и она находила в этом какое-то новое, незнакомое ей прежде удовольствие) уже как бы подчиняясь.
Ни в чем, видно, не был так уверен переплетчик, как в собственной значимости. И тем не менее он постоянно заботился о своем престиже.
Однажды, в один из немногих раз, когда он обратился к старшей из женщин, назвав ее к тому же по имени, он напомнил ей о том годе, когда она переехала в Феррару. Помнит она, какой тогда стоял холод? Он-то хорошо помнит! Большие сугробы грязного снега лежали по краям улиц еще в середине апреля. Температура упала настолько, что даже По замерзла.
— Даже По, — важно повторил он, широко раскрыв глаза.
Он, казалось, по-прежнему видит это зрелище, продолжал переплетчик: река, захваченная в плен двадцатиградусным морозом. Между заснеженными берегами вода перестала течь — совсем. Некоторые возницы, вместо того чтобы переходить через реку по железному мосту в Понтелагоскуро (это были в основном возчики дров, работавшие на лесопилку Санта-Мария-Маддалена и возвращавшиеся налегке из Феррары), предпочитали рискнуть и направляли свои уже пустые телеги через широкую ледяную полосу. Вот сумасшедшие! Они шли медленно, на несколько метров впереди лошадей, держа поводья в кулаке за спиной, а другой рукой рассыпая впереди себя опилки. И свистели, кричали как ненормальные. Зачем они кричали и свистели? А кто их знает. Может, чтобы подбодрить животных, а может, самих себя. Или просто чтобы согреться.
— В ту памятную зиму, — сказал он однажды вечером тем уважительным тоном, который всегда принимал, говоря о людях и вещах, связанных с религией (сирота с детства, он был воспитан в семинарии и сохранил к священникам — ко всему духовному сословию — какую-то сыновнюю почтительность), — вспоминаю, как бедный дон Кастелли водил нас каждую субботу во второй половине дня в Понтелагоскуро, посмотреть на По. Едва мы выходили из ворот Сан-Бенедетто, как наши стройные ряды разбивались. Пять километров туда и пять обратно: это вам не огород обойти! И однако же про трамвай дону Кастелли не вздумай даже упоминать. Хотя и тяжело дыша — возраст давал о себе знать, — всегда он был впереди всех в своей развевающейся на ветру сутане, и ваш покорный слуга рядом с ним… Настоящий святой, право слово; а для вашего покорного слуги настоящий отец!
— У меня тогда только-только родилась дочка, — вставила вполголоса Мария Мантовани на диалекте, воспользовавшись молчанием, последовавшим за словами переплетчика. — В городе я чувствовала себя потерянной, — продолжала она по-итальянски. — Я еще, можно сказать, никого не знала. Но домой-то, с другой стороны, как я могла вернуться? Вы же знаете, Оресте: в деревне — там понятия другие.
Казалось, Оресте Бенетти ее даже не услышал.
— Да, такой холод потом был только в семнадцатом году, — задумчиво сказал он.
А потом добавил, с блеском в глазах:
— Да нет, что я говорю! — Он тряхнул головой. — Даже и сравнения никакого нет. Зимой семнадцатого там, на плато Крас,[2] даже жарко было! Некоторые вещи лучше спрашивать у кое-кого, кто отсиживался в тылу и кого мы хорошо знаем. (Последние слова он произнес подчеркнуто саркастическим тоном.) Они-то фронта не видели даже на открытках!
Уловив этот неожиданно жестокий намек на Андреа Тардоцци, кузнеца из Массы-Фискальи, который был комиссован из-за плеврита и поэтому не воевал (в десятом году он переселился туда, к Альпам, где и обзавелся семьей…), Мария Мантовани обиделась и замолчала. И во весь вечер, замечтавшись о вещах, которые могли бы случиться в ее жизни, но не случились, она не сказала больше ни слова.
Что касается переплетчика, то, расставив по местам то, что он считал нужным расставить, он вновь проявлял любезность и даже галантность, свойственную его натуре. Как правило, он рассказывал в основном о себе и о своем прошлом. Лет до двадцати — двадцати пяти жизнь у него шла во всех отношениях скверно, вздыхал он. Затем, однако, у него появилась работа, ремесло, его ремесло; и с тех пор все изменилось, все стало иначе. «Мы, мастеровые», — говаривал он не без гордости, глядя Лиде прямо в глаза. Лида, всегда внимательно его слушавшая, спокойно выдерживала этот взгляд. И переплетчик был ей благодарен, это было видно, за то, что она все время сидела там, напротив, за столом, такая молчаливая, спокойная, внимательная, даже поведением своим соответствующая его тайному идеалу женщины.
Со своими разговорами переплетчик часто засиживался до полуночи. Исчерпав личные темы, он переходил к религии, истории, экономике и так далее, позволяя себе нередко углубляться также в горькие размышления — вполголоса, разумеется, — насчет антицерковной политики фашистов. В первое время, не переставая слушать его, Лида качала ногой колыбель, в которой Иренео спал до четырех лет. Позднее, когда он немного подрос и у него уже была своя кроватка (ребенок рос худеньким: лет в пять он перенес долгую болезнь, которая не только навсегда ослабила его здоровье, но и, без сомнения, повлияла на вялость и неуверенность его характера), она иногда поднималась со стула и, подойдя к спящему мальчику, наклонялась и клала руку ему на лоб.
IV
Летом 1928 года Лиде исполнилось двадцать пять лет.