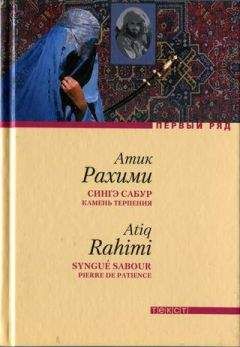Долгое молчание. Почти пять оборотов четок. Пять оборотов, во время которых женщина с закрытыми глазами словно приросла к стене. Только призыв на полуденную молитву вырывает ее из оцепенения. Она достает маленький коврик, разворачивает его и расстилает на полу. Приступает к молитве.
Молитва окончена, она остается сидеть на коврике, слушая, как мулла читает хадисы, подобающие этому дню недели: «…и сегодня день крови, ибо в день вторник у Евы впервые отошла гнилая кровь, а один из сыновей Адама убил брата своего, и еще убили Григория, Захарию и Яхья — да пребудут души их в мире, — как и колдунов Фараона, Ассайю Бент Музахима, супругу Фараона, и телицу детей Израиля…»
Она медленно озирается. Комната. Ее муж. Его тело в пустоте. Это пустое тело.
Ее взгляд полон тревоги. Она встает, сворачивает коврик, кладет его на место, в самый угол комнаты, и выходит.
Через несколько минут она возвращается проверить, сколько еще раствора в пластиковой кружке. Его там мало. Внимательно смотрит на капельницу, считает интервалы между каплями. Они коротки, короче, чем между вдохами и выдохами мужчины. Она поправляет капельницу, ждет, пока упадут две капли, потом решительно уходит: «Схожу за раствором в аптеку». Но прежде чем выйти за дверь, с подгибающимися коленями, жалобно произносит: «Только бы им уже удалось где-нибудь его раздобыть…» Выходит. Слышно, как она будит малышек, «пошли, надо выйти», и уходит, а следом детские шажочки бегут по коридору во двор…
Проходят три оборота четок, двести девяносто семь вздохов, и они возвращаются.
Женщина ведет малышек в соседнюю комнату. «Мама, есть хочу», — хнычет одна. «Почему ты не купила банан?» — надула губы вторая. «Сейчас хлеба вам дам», — утешает мать.
Когда солнечные лучи уходят сквозь дырки в желтом и синем небе занавески, женщина вновь возникает на пороге. Она долго изучающе смотрит на мужчину, потом подходит, вслушивается в его дыхание. Он дышит. Кружка с раствором пуста. «Аптека была закрыта», — говорит она и со смиренным видом ждет, как будто сейчас ей прикажут что-нибудь еще. Ничего. Ничего, кроме вдохов-выдохов. Она выходит и возвращается со стаканом воды. «Тогда как в прошлый раз, сладко-соленой водой…»
Быстрым и ловким движением она вырывает у него из руки катетер. Вынимает иглу. Промывает резиновый шланг, вводит его в полуоткрытый рот и проталкивает до тех пор, пока он не входит в пищевод. Потом выливает содержимое стакана в кружку капельницы. Приводит в действие капельницу, отмеряет интервал капель. По капле на каждый вдох-выдох.
И снова уходит.
Капель через десять она возвращается. У нее в руке чадра. «Мне бы повидаться с тетей». И стоит, все еще ожидая чего-то… позволения, не иначе. Глаза у нее бегают. «Я сошла с ума!» Она нервно поворачивается и уходит. Из-за двери, в коридоре, слышен ее голос, «А мне плевать…», заходит и уходит, «на все, что ты о ней там думаешь», входит, «…я-то люблю ее, да», уходит, «у меня только она одна и осталась… мои сестры меня бросили, твои братья тоже…», входит, «…мне увидеть ее», уходит, «надо…», входит, «…плевала она на тебя… и я вместе с ней!». Слышно, как она уходит, обе малышки следом.
Их нет три тысячи девятьсот шестьдесят вдохов-выдохов мужчины. Три тысячи девятьсот шестьдесят вдохов-выдохов, во время которых не происходит ничего, кроме того, о чем женщина уже говорила: водонос стучит в дверь к соседу. Женщина с хриплым кашлем идет открывать… Еще через несколько вдохов-выдохов по улице на велосипеде проезжает мальчуган, насвистывая песенку: «Лаила, Лаила, Лаила, как ты мила, сердце ты разбила мое…»
Но вот они возвращаются, она и обе малышки. Она оставляет их в коридоре. Открывает дверь рывком. Ее муж по-прежнему здесь. В той же позе. Дышит в том же ритме. А вот она совсем побледнела. Даже больше, чем он. Она прислоняется к стене. После долгого молчания начинает причитать: «Моя тетя… она бросила дом… она уехала!» Медленно сползает на пол, опираясь о стенку спиной. «Она уехала… куда? Никто не знает… у меня больше никого нет… никого!» Ее голос дрожит. Горло перехватило. Текут слезы. «Ей и невдомек, что тут со мной… она не знала! А то бы хоть весточку о себе подала, прибежала бы помочь мне… тебя она ненавидит, это точно, но меня-то любит… любит деток… но тебя…» От рыдания у нее срывается голос. Она отходит от стены, закрывает глаза, глубоко вздыхает, силясь сказать хоть что-нибудь. Но не может выдавить ни слова. Оно, это слово, должно быть, такое тяжелое, так отяжелело от чувства, что никак не проходит сквозь горло. Тогда она придерживает его в глубине души, ища, что бы такое сказать легкое, нежное, ничего не значащее: «А вот ты-то знал, что у тебя жена и двое малышек!» Она бьет себя по животу. Один раз. Второй. Словно чтобы выскочило тяжкое слово, погребенное у нее в кишках. Она приседает на корточки и кричит: «А когда ты вскидывал на плечо свой гадский «калашников», ты хоть на минуту подумал о нас? Ах ты ублю…», но так и не произносит слово до конца.
С минуту она не двигается. Глаза снова закрыты. Голова опущена. Она скорбно стонет. Долго. А плечи вздрагивают в такт его дыханию. Семь раз.
Семь, и вот она поднимает голову и вытирает глаза рукавом, на котором вышиты цветы и колоски. Долго вглядываясь в него, она приближается, склоняется к лицу мужчины и просит: «Прости меня», — гладя его руку. «Я устала. Сил больше нет», — шепчет она. «Не оставляй меня совсем одну, у меня только ты и есть». Говорит громко: «Без тебя я просто ничто. Подумай о своих дочерях! Что мне с ними делать? Совсем еще малышки…» Она больше не гладит его.
На дворе, где-то неподалеку, кто-то выпускает одинокую пулю. Кто-то поближе быстро стреляет в ответ. Первый стреляет второй раз. Ответа больше нет.
«Мулла сегодня не придет», — говорит она с явным облегчением. «…Он боится шальных пуль. Такой же трусливый, как твои братья». Она встает и делает несколько шагов. «Вы, мужчины, все трусы!» Снова подходит к нему. Хмуро смотрит прямо ему в лицо. «Где они, твои братья, ведь они так гордились тобой, когда ты воевал с их врагами?» Два вздоха и ее молчание, полное ярости. «Трусы!» — выдыхает она. «Им бы надо было побеспокоиться о твоих детях, обо мне — о твоей чести, об их чести, — что, разве нет? Где твоя мать, которая без конца талдычила, что готова принести себя в жертву, лишь бы ни один волос не упал с твоей головы? Она даже подумать не могла, что ее сын, этот герой, сражавшийся на всех фронтах, против всех врагов, получит такую пулю в жалкой потасовке от типа — из своих же, конечно, — который еще и сказал ему: «А я плюю твоей матери в п…у!» Вот уж оскорбил так оскорбил!» Приближается на один шаг. «Как это смешно, как нелепо!» Ее взгляд блуждает по комнате, потом, отяжелевший, останавливается на нем — а пусть-ка послушает, что она сейчас скажет: «Знаешь… твоя родня, прежде чем уехать из города, знаешь что они мне сказали? Что им не с руки беспокоиться о твоей жене и твоих детях… чтоб ты знал: они тебя бросили. Им на все это наплевать, на твое состояние, на твое горе, на твою честь!.. Они нас покинули…» — выкрикивает она. «Нас, меня!» Она воздевает руку с четками к потолку и молит: «Аллах, помоги мне!.. Аль-Каххар, Аль-Каххар…» И плачет.
Еще один оборот четок.
Обессиленная, она бормочет, запинаясь: «Я схожу… сошла… с ума…», запрокидывает голову. «Зачем было ему такое говорить? Я схожу с ума. Вырви мне язык, о Аллах! Пусть мой рот засыплют землей!», закрывает лицо. «Аллах, защити меня, я заблудилась, укажи мне путь!»
Ответа не слышно.
Никакого.
Ее рука утопает в космах мужа. Из пересохшего горла рвутся мольбы: «Вернись, умоляю тебя, прежде чем я потеряю разум. Вернись, это только ради детей…» Она поднимает голову. Затуманенный слезами взгляд застывает в той же пустоте, что и взгляд мужчины. «Господи, сделай же так, чтобы он ожил!» Ее голос наливается тяжестью. «В конце концов, он долго бился во имя Твое. Ради Джихада!» Она умолкает, потом снова: «А Ты, Ты оставишь все вот так, да?! А его дети? А я? Ты не можешь, нет, Ты не имеешь права бросать нас вот так, без мужчины!» Левой рукой, той, в которой четки, она придвигает к себе Коран. Ярость клокочет у нее в горле. «Покажи, что Ты есть, сделай, чтобы он ожил!» Она открывает Коран. Пальцем пробегает по именам Бога, которые на заложенной странице. «Клянусь Тебе, больше я никогда не отпущу его воевать, как последнего недоумка. Даже во имя Твое! Он будет моим, здесь, со мной рядом». Из-за рыдания, перехватившего глотку, у нее получается лишь сдавленный крик: «Аль-Каххар!» И заново начинает перебирать четки. «Аль-Каххар…» Девяносто девять раз «Аль-Каххар».
В комнате кромешная темнота.
«Мама, мне страшно. Здесь так темно». За дверью, в коридоре плачет одна из малышек. Женщина встает, чтобы выйти.