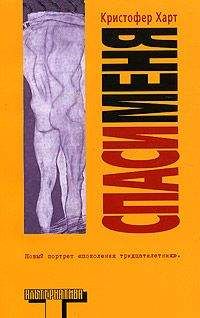И вот съемки начались: на нас надвигаются камеры — каждая на человеческом торсе, точно бесхвостый Анубис [2], и незрячий глаз объектива на огромной морде пожирает каждое наше движение.
Сейчас мы схватим мачете и яростно перерубим канаты — исключительно для операторов, заметьте. Настоящий якорный трос, который держит шар, будет отпущен только после надлежащей проверки и когда на борт заберется опытный пилот. Дело в том, что последний недостаточно телегеничен: усыпанное прыщами лицо, огромное пузо и пышная растительность в носу. Вот почему мы сначала понарошку запустим трех милых телегеничных звезд. Пара часов в монтажной — и все будет шик-блеск: натурально и невероятно волнующе.
Случайно перехватываю покровительственную улыбку Андрэи Джолли, предназначенную исключительно мне. Наезжают камеры, мы рубим бутафорские тросы — и вдруг сам собой разматывается якорный канат, этот душегуб. Не успеваем мы сообразить что к чему — как шар уже парит в тридцати футах от земли и продолжает удаляться. А стремительно увеличивающееся между нами пространство заполняют быстро стихающие крики о помощи.
— Тяни красный шнур! — вопит над моим ухом не созданный для телевидения опытный пилот воздушного шара. — Выпускай газ!
Однако к этому времени три не слишком выдающиеся, но обожаемые публикой телезвезды удалились на такое расстояние, что не в силах внять его отчаянным призывам. Очевидно, сегодня погодные условия не вполне благоприятствуют воздухоплаванию: скопления дождевых облаков да плюс восходящие потоки холодного воздуха. Шар подхватывает теплым течением, и в мгновение ока он, точно мячик для пинг-понга в фонтане, подскакивает на головокружительную высоту в десять тысяч футов. Температура там что-то около двух градусов по Цельсию, шар встречает противоположный воздушный поток, которого здесь вообще быть не должно, и воздушный корабль уплывает в направлении, четко противоположном заданному, — в сторону Восточной Англии. И вот наши незадачливые летуны уже парят над черными водами мятежного Северного моря…
Признаю, каскадерский эпизод прошел не так благополучно, как мог бы. Хотя вообще-то вся эта печальная история выеденного яйца не стоит — так нет же, такую шумиху подняли, будто в несчастной корзине от нас унесся сам Ноэл Эдмондз [3].
Вчера вечером в новостях намекнули, будто умник, замысливший весь этот номер с воздушным шаром, повинен в гибели трех всеобщих любимцев и национальных героев ранга Джилл Дандо. Одним словом, я не популярен в народе, и мне не улыбнется когда-нибудь снова получить работу. Даже в самой захудалой закусочной, где, перемазавшись по уши в свином сале, нужно жарить гамбургеры для хамоватых подростков-переростков. Впрочем, как известно, и худа без добра не бывает: «Орме, Одсток и Олифант» тоже не в меду купаются, а уж «шакальему» каналу почетный эскорт на тот свет и вовсе гарантирован — в лучшем случае им придется сменить название.
Итак, я встаю, исполненный достоинства, застегиваю пиджак и пожимаю пухлую, протравленную кокаином руку босса. Он дает пятнадцать минут на то, чтобы я освободил стол, и надеется, что больше обо мне никогда не услышит.
Из стола забирать нечего — прощай, любимая коробочка для скрепок. Зато я поднимаюсь на лифте на два этажа, дабы попрощаться с Клайвом. При виде меня все замирают, а в коридоре боязливо расступаются, будто опасаясь подхватить бациллу невезения. (Согласитесь, можно жить со СПИДом, даже с тропической лихорадкой какое-то время — вот только с НЕВЕЗЕНИЕМ нельзя…) По пути я одариваю встречных обворожительной, ничего не выражающей улыбкой а-ля Андрэя Джолли и молю бога, чтобы теперь, в столь ответственный момент, на меня опять не напала икота. И вдруг вижу Клайва у столика нашей новой секретарши. Амрита — настоящая красавица: прямой царственный профиль, золотые браслеты на запястьях, а умница какая — аж жуть берет. У нее превосходная дикция, и говорит она четкими грамотными предложениями, а то и целыми абзацами, словно зачитывая передовицу индийского выпуска «Таймс». Клайв очарован — глупец, да у него больше шансов покорить Андрэю Дворкин [4].
При виде меня собеседники несколько скованно оборачиваются — спасибо, хоть не шарахнулись, как от ходячей вирусной заразы.
— Земля слухами полнится, — говорит Клайв. — Получил пинком под зад, дружище?
Киваю.
— Вот сволочи, — гневно шепчет он, прикрывая рот ладонью, будто опасаясь чужих ушей. — Это был несчастный случай — любой подтвердит.
— Так-то оно так, да только вот погибли три обожаемых бездарности, — уточняю я. — Репутация у нас теперь — врагу не пожелаешь.
— Человеческие жертвы здесь ни при чем, — возражает Амрита. — Все дело в деньгах.
После короткой паузы Клайв спрашивает:
— И что теперь намереваешься предпринять?
Я пожимаю плечами.
— Для начала надерусь в стельку, потом привыкну телевизор с утра до вечера смотреть — кроме «Шакала», конечно. А после, может, работу подыщу. Или машину продам — и путешествовать.
Клайв глубокомысленно кивает:
— В любом случае будь на связи.
— А стоит ли? — говорю, а у самого ком в горле — так себя жалко. — Здесь все на меня как на прокаженного смотрят. Одсток — тот даже руку мне не пожал.
— Паскудники, — злобно шепчет Клайв и уже громче добавляет: — Чего еще от них ожидать.
Вот он, наш Клайв. Гордо глядит на окружающих с высоты своих пяти футов семи дюймов, наверное, желая доказать что-нибудь Амрите, не знаю. Однако я все равно тронут. Мой приятель расправляет плечи и громогласно изрекает:
— Среди нас еще остались те, кто не чурается друга всего лишь из-за того, что тот сгубил трех человек.
Да, наш достопочтенный [5] Клайв Спунер. Дай-ка я заключу тебя в объятия. Ну разумеется, фигурально — я же англичанин, в конце концов. И все-таки нельзя не отдать ему должного, нашему достопочтенному Клайву.
Амрита пожимает мне руку: перезвон браслетов, подведенные какой-то заморской краской глаза, серьезная улыбка.
— «Шанти-шанти-шанти», да пребудет с тобой мир, — изрекает она тоном восточного мудреца. — Не падай духом.
* * *
Достопочтенный Клайв Спунер — третий сын лорда Крэйгмура. Родители Клайва разошлись. Его матушка, Оливия, проживающая в Лондоне, снискала себе уважение на поприще топографического искусства девятнадцатого столетия. Будучи специалистом в вышеназванной области, она много путешествует. Лорд известен манерой говорить отрывисто и четко, его ботинки блестят до рези в глазах, и сравниться с ними могут разве что его бордовые, цвета хорошего бургундского вина, щеки. Он носит маленькие седые усики и часто кричит на людях.
Когда четверо сыновей лорда Крэйгмура были еще сорванцами, он ставил их в ряд в передней родового замка и внимательно осматривал обувь подростков — по крайней мере в тех редких случаях, когда дети наезжали домой из пансиона. (Клайв, подобно трем своим братьям, Гектору, Гамишу и Дугалу, по достижении семи лет был отослан в пансион.) На свой восьмой день рождения он получил подарок от отца. В посылке лежала жестяная баночка коричневого гуталина. Ни записки, ни поздравительной открытки. Только гуталин.
Матушка не прислала ему ничего.
Зато на следующий день, ровно в восемь утра, любящая мать самолично прикатила на Олд-Квод в своем дряхленьком «альфа-ромео» с включенной на полную магнитолой и, посигналив гудком, потребовала, чтобы перетрухнувший заведующий пансионом привел ее сынка-именинника. Заведующий ответил, что Спунер Третий сейчас на завтраке, а кроме того, у него нет разрешения на отлучку. Леди Крэйгмур неторопливо закурила сигарету в длинном черном мундштуке, а затем сообщила престарелому служаке, что не двинется с места, пока ее дорогой мальчик не будет отпущен на ее попечение. И более того, если ее желание не будет исполнено к тому времени, как погаснет эта сигарета, она начнет раздеваться.
Не прошло и минуты, как Спунер Третий уже восседал на пассажирском сиденье упомянутого «альфа-ромео».
Следующие две недели Клайв с матерью колесили по Европе, купались в самых разных морях и ели мороженое.
Вернувшись в школу, мой будущий друг рыдал и молил мать забрать его с собой. Та вздыхала и говорила, что это совершенно невозможно — ведь в то время она жила в крохотной каморке в Пимлико. Под широкими полями ее шляпы тоже текли слезы, однако Клайв об этом так и не узнал.
Оливия поехала обратно в Лондон. Перед глазами расплывались огромные белые фары встречных машин, а мать Клайва неистово курила, без устали бормоча, словно заклинание: «Бессердечные мерзавцы. Бесчувственные английские мерзавцы».
Откуда я все это знаю? Оливия разоткровенничалась в минуту слабости.