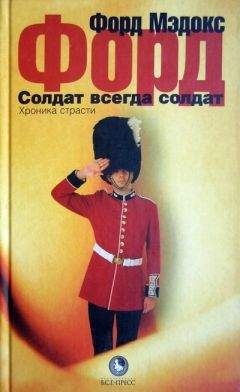Хозяйка рассказала, что нашла в подвале вещи тридцати интернированных японских семей. Вещи так и пролежали в подвале все эти годы — осколок военной поры.
Генри молча следил, как из подвала выносят ящик за ящиком, чемодан за чемоданом, а зрители завороженно разглядывают прежде столь дорогие кому-то белое платье для первого причастия, корзины для пикников, почерневшие серебряные подсвечники, что пылились, нетронутые, сорок с лишним лет. Ждали лучших времен, так и не наставших.
Чем больше думал Генри об этих безделицах, о забытых сокровищах, тем настойчивей спрашивал себя, не отыщется ли и его разбитое сердце там, среди невостребованных вещей из прошлого. Запертых в подвале обреченного на снос отеля. Утраченных, но не забытых.
Из запруженного народом отеля Генри вернулся домой, на Бикон-Хилл, — совсем недалеко, с живописным видом на Рейнир-авеню, но в более спокойном районе, через улицу от китайского квартала. Скромный домик, с тремя спальнями и полуподвальным этажом, до сих пор не отремонтированным. Генри рассчитывал закончить ремонт, когда его сын Марти поступил учиться, но Этель совсем сдала, и все деньги, отложенные на черный день, ушли на оплату больничных счетов. Черный день растянулся почти на десяток лет. Медицинская страховка подоспела как раз вовремя, хватило бы даже на хоспис, но Генри остался верен клятве: заботиться о жене в горе и радости. Да и кому захочется доживать остаток дней в казенном доме, похожем на тюрьму, среди других обреченных на смерть?
Не успел Генри ответить на свой же вопрос, как в дверь постучали раз, другой, вошел Марти, бросил на ходу: «Как жизнь, пап?» — и прямиком на кухню.
— Не вставай, я на минутку, только водички хлебну. Пешком топал от Капитолийского холма — ну, чтобы размяться; тебе бы тоже разминка не помешала, ты поправился после маминой смерти.
Генри глянул на свое округлившееся брюшко и приглушил звук телевизора. Он ждал, не скажут ли в новостях о сегодняшних находках в отеле «Панама», — нет, ни словечка. Видимо, важных новостей и без того хватает. На коленях он держал кипу старых фотоальбомов и школьных ежегодников — в пятнах плесени от влажного сиэтлского воздуха, подтачивавшего голые бетонные стены нижнего этажа, так и не дождавшиеся ремонта.
Генри редко виделся с сыном после смерти Этель. Марти учился на химическом факультете Сиэтлского университета — вот и хорошо, не пустится во все тяжкие, правда, и не пустит Генри в свою жизнь. Пока была жива Этель, это было не так важно, но теперь отстраненность сына делала глубже пустоту в душе Генри — будто стоишь у края пропасти, кричишь и напрасно дожидаешься эха. Если же Марти все-таки заявлялся домой, то лишь затем, чтобы постирать белье, отполировать воском машину или стрельнуть деньжат — в чем Генри никогда не отказывал.
Генри много лет бился на два фронта — ухаживал за Этель и платил за учение сына. Хоть Марти и получал небольшую стипендию, без образовательного кредита было не обойтись, а когда Генри досрочно ушел на пенсию из компании «Боинг», чтобы ухаживать за Этель, он стал прямо-таки богачом — но лишь на бумаге. Для кредиторов Марти был сыном состоятельных родителей, но не кредиторы же платят за лечение! Этель не стало, и остатка денег едва хватило на достойные похороны, — по мнению Марти, лишние расходы.
Генри утаил от сына вторую закладную — чтобы Марти мог доучиться, когда кончится образовательный кредит. К чему его беспокоить? Зачем взваливать на него лишний груз? Хватит с него и забот с учебой. Как всякий любящий отец, Генри стремился дать сыну лучшее, пусть они и редко перебрасывались словом.
Генри разглядывал альбомы — выцветшие напоминания о школьных годах, — ища лицо, которого там быть не могло. «Я стараюсь не жить прошлым. — думал Генри, — и все-таки прошлое живет во мне». Он поднял голову и посмотрел на Марти, вошедшего в комнату с высоким бокалом зеленого чая со льдом. Присев было на диван, Марти тут же переместился в потертое мамино кресло из искусственной кожи, прямо напротив Генри, а Генри рад был видеть кого-то… все равно кого… на месте Этель.
— Чая со льдом больше нет? — спросил Генри.
— Нет, — ответил Марти, — последний бокал — для тебя, пап.
Марти опустил бокал на нефритовую подставку рядом с Генри. И Генри осознал, насколько он постарел душой, очерствел за эти месяцы после похорон. Дело не в Марти. Дело в нем самом — не мешало бы почаще выбираться из дома. Что ж, начало положено.
Но в ответ лишь промямлил «спасибо».
— Прости, что давно не заходил. С экзаменами аврал, да и не хотелось транжирить ваши с мамой деньги.
Генри покраснел, в тот же миг потухла шумная старая печь. Дом начал остывать.
— Это тебе, в благодарность. — Марти протянул конверт лай си[2], ярко-алый, с тисненым узором из золотой фольги.
Генри взял подарок.
— Конверт с деньгами на счастье? Решил вернуть долг?
Марти улыбнулся, поднял брови.
— Можно сказать, да.
Неважно, что в конверте. Забота сына тронула Генри. Он коснулся золотой печати с кантонским иероглифом, означавшим «процветание». Внутри оказался сложенный листок с оценками Марти. Средний балл — 4.0.
— Я заканчиваю summa cum laude, с высшим отличием.
Тишина, лишь еле слышный гул приглушенного телевизора.
— Ты что, пап?
Генри вытер глаза.
— Может, придет и мой черед занимать у тебя.
— Если когда-нибудь решишь доучиться в университете, с радостью помогу деньгами, пап, — станешь студентом.
Студент. К этому слову у Генри было особое отношение, и лишь отчасти потому, что он так и не доучился. В 1949 году он оставил Вашингтонский университет и поступил на завод «Боинг» учеником чертежника. Программа «Боинг» открывала большие возможности, но Генри сознавал, что истинная причина его ухода другая — горькая, печальная. Среди однокурсников он так и остался чужим. Одинокое детство наложило печать и на его студенческие годы. Сверстники не давили на него. Просто отвергали.
Листая выпускной альбом шестого класса, Генри вспоминал школу — все, что любил и ненавидел. Чужие лица всплывали в памяти, словно в старом кино. Недобрые взгляды тогдашних обидчиков — как обманчивы их невинные улыбки на школьной фотографии! Рядом с общим снимком класса столбик имен — те, кого нет на фото. Генри отыскал в списке свое имя. Его в самом деле не было среди улыбающихся ребят, но он был там в тот день. Весь день.
В двенадцать лет Генри Ли перестал разговаривать с родителями. Не по детской прихоти, а по их же просьбе. Во всяком случае, так он понял. Родители попросили… нет, велели больше не обращаться к ним на родном китайском. Шел 1942 год, и отец с матерью мечтали, чтобы сын выучил английский. Тем сильнее растерялся Генри, когда отец приколол к его школьной рубашке значок «Я китаец». Что за ерунда! Зачем это надо? — удивлялся Генри. Национальная гордость завела отца слишком далеко.
— Во бу дун, — на чистейшем кантонском сказал Генри. Ничего не понимаю.
Отец ударил его по щеке — даже не ударил, а шлепнул слегка, чтобы заставить слушать.
— Больше хватит. Теперь ты говорить только америка, — объяснил отец на ломаном английском.
— Зачем? — сказал по-английски Генри.
— Что — зачем? — переспросил отец.
— Раз по-китайски говорить нельзя, зачем носить значок?
— Что ты сказал? — Отец повернулся к маме, выглянувшей из кухни. Та ответила недоуменным взглядом, передернула плечами и вернулась на кухню, откуда пахло сладким пирогом с каштанами. Отец небрежно махнул Генри: ступай в школу.
Раз по-кантонски говорить запрещалось, а английского отец с матерью почти не понимали, Генри не стал допытываться, а схватил сумку с книгами и завтрак, сбежал с лестницы и направился в пропахший морем и рыбой китайский квартал Сиэтла.
По утрам город оживал. Грузчики в перепачканных рыбой майках таскали ящики морского окуня и ведра моллюсков во льду. Генри прошел мимо, прислушиваясь к их ругани на неведомом даже ему диалекте китайского.
Генри двинулся по Джексон-стрит, мимо тележки с цветами и гадалки, торговавшей счастливыми лотерейными билетами; а в обратной стороне, всего в трех кварталах от дома, где на втором этаже жил Генри с родителями, была китайская школа. Обычный путь Генри в школу лежал против течения, навстречу десяткам ребят, шедших в другую сторону.
— Пак гуай! Пак гуай! — кричали они. Кое-кто просто смеялся, тыча пальцем. Слова значили «белый дьявол» — так дразнили белых, да и то лишь тех, кого и вправду стоило обозвать. Некоторые из ребят — те, с кем он учился раньше, друзья детства — жалели Генри. Он знал их с первого класса. Фрэнсис Лун, Гарольд Чжао. Они звали его просто Каспером, в честь доброго привидения. Спасибо, что не Микки-Маусом и не утенком Дональдом.