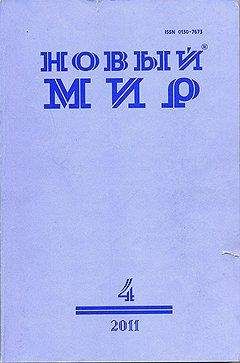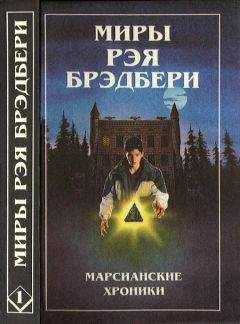— Таким, как Артем, нужна помощь и жесткая поддержка именно простоватых, — поддакивает (и одновременно успокаивает) сестренка Инна. — Помню, как страстно, как яростно твой интеллигентный Артем обрушился на цензуру. Я слушала его по «ящику» и замирала. Замирала от его храбрости… Тот редкий случай, Оля, когда замираешь от чьей-то неожиданной… от неподсказанной храбрости.
— «Ящик» — совсем другое. Надо слушать живьем. Приходи.
— Даже удивительно, что раньше ты меня не звала на его выступления.
— Ты же хорошенькая… Опасная.
Пошучивая, Ольга не забывает ласково «лизнуть» ершистую сестренку — подхвалить и поощрить младшую. Хотя, если о внешности и если честно, из них двоих красива именно она, Ольга.
Но Инна умненькая, все понимает. От доброты сестринских слов крыша у нее не поедет.
— Я, конечно, завидую, Оль!.. И я так хочу тебе счастья. Как не завидовать!.. Вот он с тобой, настоящий мужчина!
— У тебя, Инночка, все впереди.
— Не знаю, не знаю. У меня, Оль, любовное затишье. Отчетливая сексуальная пауза. Уже, пожалуй, затянувшаяся.
— А тот парень, который мучил стихами? который косил под жириновца?
— Проехали.
— Почему?
Но вместо ответа посыпались гудки… вновь мелкие мерзкие телефонные гудки! Невыносимо!.. Сколько можно!.. Бардак какой-то, а не связь! Возмущенная Ольга бесцельно бродит, заглядывает в комнату-кухню и возвращается оттуда, скучно грызя застарелое печенье.
Да, здесь она живет… Студия велика, полуподвал разделен перегородками на секции, это как бы смежные комнаты, много комнат. И конечно, всюду проходы без дверей. Двери, где надо, делали сами.
Кандинский. Книги о нем. Знаменитые репродуцированные работы… И очень кстати, что в полуслепые окна уже с утра сочится и пробивается к репродукциям живой рассветный луч.
Три секции, что как-никак с дверьми, являют собой личную жизнь Ольги. Но двери всегда распахнуты. Кухня… Спальня… Кабинет… Здесь ее хоромы.
Пара старых, терпеливых кресел.
Здесь же еще один телефонный аппарат, чтоб не бегать.
— Спит наш популярный политик?
— Дрыхнет, — смеется Ольга.
— Счастливая. Можешь нырнуть к нему под одеяло.
— Нет… Не этой ночью. Боюсь даже дотронуться.
— Не выдумывай. Небось только что нырнула. Ты всегда звонишь сразу после этого.
— М-м.
— Сознавайся: нырнула?
— Да нет же. Сегодня ему выступать.
— Сознавайся!
— Ты, сестренка, весело щебечешь. Ты пташечка… А для меня каждая ночь перед его выступлением — как проба на новую жизнь, как испытание.
— Я бы не колебалась. Нырнула бы еще разок к нему под одеяло — и все мысли долой. Вплоть до светлого утра.
— Представь, что творится в бессонной моей голове, если я полночи, как комсомолка, рассуждаю, что такое счастье! мое тихое и нескучное счастье!.. Сама с собой!.. вслух!
— И пусть!
— Вдруг и на ровном месте несу что-то бредовое — говорю-говорю-говорю самой себе…
— Счастье — это как редкое блюдо!.. Кушай, дорогая!.. Кушай!.. Я так за тебя рада, Оля! И прошу тебя, ни о чем не думай — нырни к нему в постель, вот тебе оно то самое… твое… Тихое и нескучное!
— Я только что там была.
— А еще разок?!
— Ему надо отдохнуть. Знаешь. Волнуюсь… Когда-нибудь будем гордиться… Жили в одно время с Артемом Константой.
— Скажи — а почему с утра?.. Утренний необъявленный митинг?!. Что за дела? Что за времена!
— Когда-нибудь будем гордиться. Мы в эти времена жили!
*
Артем в постели — он, кажется, уже в другом, но тоже тревожном сне. Он уже не пересчитывает голосовавших. Вдруг бормочет:
— Пейзажик. Пейзажик…
Ольга успокаивает — подсела к спящему, зажав плечом телефонную трубку.
Но Артем не унимается:
— Лошадка. Почему избушка так покосилась?.. Больше! Больше ярких деревенских красок. Какая серость!..
Спящий, он задышал ровней. Но тут же опять заработала его что-то ищущая, роющая память:
— Пейзажик… Совсем небольшой… Снег, снег. Много снега! И лошадка вся… вся в снегу…
Инна тоже слышит выкрики и зовет по телефону:
— Оля! Оля!.. Это он опять? Во сне?
— Да. Лепечет что-то… Не знаю, как понять! Вчера он так пылко говорил про абстрактную живопись. Про гений Кандинского. А сегодня в голове у него застрял какой-то вылизанный кич! зимняя картинка! Еще и с лошадью, запряженной в сани…
— Народный вкус. Он и во сне завоевывает толпу.
— Тебе смешно… Да, я искусствовед. Да, популяризатор. Но ты же знаешь, — со страстью продолжает Ольга. — Кандинский — это моя жизнь. Это мое всё. Кандинский! — вот где философия линии, вот где буйство красок, неистовство, интеллект…
Спящий Артем, перебивая, выкрикивает:
— Пейзажик!
— На митинге сегодня обрати внимание. Когда Артем выступает, он говорит про народ… и еще про население. Он различает народ и население… Ты в этом понимаешь? — спрашивает сестру Ольга. — Народ, население, толпа. Я пыталась понять… Для меня это сложно.
— Нервничаешь?
— Ужасно!
— Он, Оля, бедноват, да?.. По телевизору я заметила. Плохо одет.
— Сейчас все плохо одеты.
— Но когда вчера… нет, позавчера… Когда Артем был здесь, у тебя, я отметила, что на нем новый, только что купленный пиджак. И рубашка…
— Инночка!.. Пиджак! Рубашка!.. Это все глупости! Я так боюсь главного — боюсь, что поспешила, поторопилась к нему, дернулась. Сразу постель… Я, в сущности, мало Артема знаю.
— Передай его мне, я узнаю побольше.
— Моя сестричка все шутит.
— А вот не ной, дорогая.
— Известный человек. Уже популярный. Наверняка на нем будут виснуть женщины.
— Виснут не женщины, а бабы. И пусть!.. Моя дорогая старшая сестра… Что это ты замолчала? Что за пауза?
— Взяла чашку чая.
— А!.. Я думала, он проснулся.
— Спит.
— А пока спит, вяжи его покрепче к постели.
— Чем, дорогая моя Инночка?.. Я не привязываю постелью. Не умею. А политика и политики, если честно, меня не интересуют.
Артем кричит со сна:
— Пейзажик!
— Расслабься, Оль. Он хороший мужик. С хорошим именем… На десять лет тебя старше. Десять!.. Это же классика для стойкой семьи!
— Ты так убедительна.
— Добавь — и так одинока.
— Ну-ну!.. Тебе только двадцать шесть.
— А тебе только тридцать. Чего ты боишься?!. Как это у нас говорилось. Вспомни. Подсказка нашего поколения. Романы романами, но не забудь побыть замужем.
— Я как-то слишком быстро с ним сроднилась. За мной водится эта женская слабина. Живу его делами. Его мыслями… Его мелочами… А еще вдруг этот гадкий слушок. Дядь Кеша и дядь Петр принесли…
— Они и мне звонили. Слушок пущен специально… Но Артема не запачкать.
— Уверена?
— По всей Москве слышно — Константа, Константа!.. Кто в нашем районе борется с цензурой? — Артем Константа! Кому прочат высокий пост в Московской думе? — Артему Константе!..
— Ну зачем, зачем он политик! Отец сколько мог внушал мне отвращение к политикам.
— Но Оля! А как же речь Артема о цензуре! Знаменитая речь!.. Она прогремела! Она уже в истории!
Сонный Артем словно о чем-то предупреждает счастливо разговорившихся, расщебетавшихся сестер. Словно бы издалека, строго погрозил им пальцем:
— Пейзажик!
*
— Ладно. Всё. Уже утро, — говорит Инна. — Я одеваюсь… А ты пока погадай по Кандинскому. Погадай себе, а заодно и мне.
— О чем?
— О нынешней ночи. О сегодняшнем звездном дне.
Ольга берет в руки пульт и наугад направляет в сторону репродуцированных работ художника.
— «Синий всадник»?
— Как хочешь…
Замелькало… Репродукции поочередно вспыхивают и гаснут.
Но Ольга откладывает гадание: — Нет, Инночка. Не хочу… Записи очень громкоголосы. Боюсь его разбудить.
— Кандинского?
Тихая ночная шутка. Сестры тихо смеются.
Техническая изюминка.
Развешанные на стенах К-студии репродукции известных картин В. В. Кандинского снабжены краткими магнитофонными записями — нацель пульт, нажми кнопку, и востребованная тобой (или напротив — тобой не жданная, выкрик оракула) картина, высветившись, «заговорит».
Не бог весть, но эффектно.
Как правило, «заговорит» картина цитатой из статей, из книг Кандинского, из интервью.
Надо бы и ей сколько-то поспать, хотя бы поваляться. Ольга осторожно взбивает прохладную подушку на своей стороне постели.
Всматривается в спящего Артема.
Так бывает, что женщина своего мужчину может близко рассмотреть только вдруг — в серенькое предутро. А затем его слишком заторопят, заспешат, затолкают, задергают, заговорят глупостями. Лица мужчины ей уже не увидеть, не разглядеть, бедолагу потащило быстрой водой… горной водой!.. да и женщину с ним вместе! оба барахтаются!