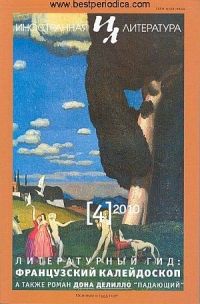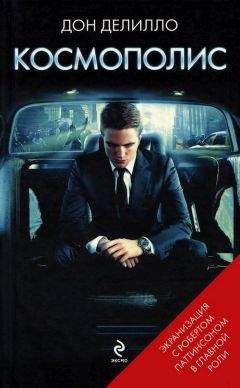— А мы паззл собрали, паззл с животными: лошади на поле.
Ее мать жила неподалеку от Пятой авеню. На стенах — картины, развешенные с досконально выверенными интервалами, на столиках и книжных полках — небольшие бронзовые скульптуры. Но сегодня в гостиной царил безмятежный беспорядок: игрушки Джастина, разбросанные по полу, нарушили дух комнаты, ощущение существования вне времени (вот и славно, подумала Лианна, иначе атмосфера заставляла бы перейти на шепот).
— Я не знала, что делать. Телефоны не работали. В итоге мы пошли пешком в больницу. Я вела его, как ребенка, шажок, еще шажок.
— Почему он вообще туда пошел — к тебе домой?
— Не знаю.
— Почему сразу не пошел в больницу? Там у себя, в своем районе. Почему он не пошел к друзьям?
Под «друзьями» подразумевалась женщина: мать, как всегда, не удержалась от колкостей.
— Я не знаю.
— Ты с ним об этом не заговаривала. Где он теперь?
— С ним все в порядке. Врачи его пока отпустили.
— О чем вы разговаривали?
— Ничего серьезного — в смысле, физически не очень пострадал.
— О чем вы разговаривали? — повторила мать.
Ее мать, Нина Бартос, преподавала в университетах: в Калифорнии, в Нью-Йорке. Два года как на пенсии. Госпожа Такая-То, Профессор Того-Сего, как выразился однажды Кейт. Бледная, исхудавшая — последствия операции: протезирования коленного сустава. Мать состарилась, решительно и окончательно, и, казалось, добровольно: вздумала превратиться в усталую старуху, отдаться старости, увязнуть в ней, войти во вкус. Трости, лекарства, послеобеденный сон, особая диета, походы по врачам.
— О чем сейчас разговаривать? Ему надо от всего отрешиться, и от разговоров тоже.
— Не пускает к себе в душу.
— Ты же знаешь Кейта.
— Меня в нем всегда это восхищало. В нем чувствуется потаенная глубина: не только походы и лыжи, не только игра в карты. Но что там у него в глубинах, а?
— Альпинизм. Не забывай.
— Ты ходила с ним в горы. Да, я как-то запамятовала.
Мать, сидящая в кресле, пошевелилась; ноги закинуты на пуфик, подобранный под тон кресла; скоро полдень, а она все еще в халате; ей дико хочется курить.
— Его замкнутость, или как там ее назвать, мне нравится, — сказала она. — Но ты лучше остерегайся.
— Это он при тебе замыкается — или раньше замыкался, в те редкие моменты, когда вы общались по-настоящему.
— Будь осторожнее. Знаю: он подвергался большой опасности. Там были его друзья — тоже знаю, — сказала мать. — Но ты позволила состраданию и милосердию возобладать над разумом.
А еще — беседы с приятелями и бывшими коллегами о протезировании коленных суставов и переломах шейки бедра, о жестокостях склероза и долгосрочных полисах медицинского страхования. Все это столь не вязалось с представлениями Лианны о матери, что закрадывалось подозрение: Нина разыгрывает комедию. Пытается адаптироваться к невыдуманным атакам старости: драматизирует, слегка отстраняется, оставляет люфт для иронии.
— А Джастин? В доме снова есть отец.
— С ним все нормально. Иди-пойми, что у мальчика в голове. Все у него нормально, опять в школу ходит, — сказала она. — Занятия снова начались.
— Но ты волнуешься. Я-то знаю. Любишь растравлять в себе страх.
— Что теперь на очереди? Разве ты не задумываешься? На очереди — не через месяц. В ближайшие годы.
— Что на очереди? Ничего. Нет никакой очереди. Это случилось, и очередь кончилась. Восемь лет назад в одну из башен подложили бомбу. Тогда никто не спрашивал: «Что на очереди?» А на очереди было вот это. Бояться надо тогда, когда нет оснований. Теперь — поздно.
Лианна подошла к окну:
— Но когда башни рухнули…
— Я знаю.
— Когда это случилось.
— Я знаю.
— Я думала, что он погиб.
— И я так думала, — сказала Нина. — Столько людей наблюдало.
— И все думали: он погиб, она погибла.
— Знаю.
— Смотрели, как падают здания.
— Сначала первое, потом второе. Знаю, — сказала ее мать.
Тростей у нее было несколько — выбирай любую, и иногда, когда выдавалось время или лил дождь, она ходила пешком за несколько кварталов в «Метрополитен», в залы живописи. За полтора часа — три или четыре полотна. Смотрела на неисчерпаемое. Она любила большие залы, старых мастеров, все, что непременно воздействует на глаз и душу, на память и личность. Потом возвращалась домой, раскрывала какую-нибудь книгу. Немножко почитает, немножко подремлет.
— Конечно, ребенок — это счастье, но в остальном — ты лучше меня знаешь — ты совершила большую ошибку, став его женой. И ведь сама пожелала, сама напросилась. Выбрала стиль жизни, не считаясь с последствиями. Ты четко знала, чего хочешь, и подумала: Кейт — это оно.
— И чего же я хотела?
— Ты думала, Кейт даст тебе это.
— И чего же я хотела?
— Почувствовать опасный пульс жизни. То, что ассоциировалось у тебя с отцом. Но туг иной случай. В глубине души твой отец был человек осмотрительный. А твой сын — прелестный и тонко чувствующий ребенок, — сказала она. — Но в остальном…
Честно говоря, она — Лианна — любила эту комнату прибранной, когда игрушки не валялись где попало. В этой квартире мать поселилась лишь несколько лет назад, и Лианна обычно осматривалась здесь глазами гостьи: спокойное, без тени неуверенности пространство, — и не страшно, что оно невольно сковывает. Больше всего ей нравились два натюрморта на северной стене — работы Джорджо Моранди. Мать занималась его творчеством, писала о нем. Изображены расставленные рядами бутылки, кувшины, жестяные банки с печеньем — только и всего, но в мазках была какая-то тайна, которую не назвать словами; то ли в мазках, то ли в кривых очертаниях ваз и банок. Картины бередили душу чем-то трогательным, ускользающим от анализа, не зависящим от светотени и колорита. Natura morta Итальянский термин, к которому восходит слово «натюрморт», казался слишком уж образным, даже зловещим, но этой мыслью она с матерью не делилась. Пусть подтексты порхают себе на ветру, не отягощенные комментариями авторитетов.
— В детстве ты была почемучкой. Упорно расспрашивала. Но тебя интересовали неподходящие вещи.
— Мои вещи, не твои.
— Кейт искал женщину, которая с его подначки выкинула бы какой-то фортель, а потом раскаялась. Это в его духе: подбивать женщин на поступки, о которых потом жалеют. А ты затеяла связь не на одну ночь, не на уик-энд. Он — мужчина для уик-эндов. А ты что сделала?
— Сейчас не время.
— Вышла за него замуж.
— А потом выгнала. У меня к нему были серьезные претензии. Со временем накопились. Тебя в нем коробит совсем другое: он не ученый, не художник. Ни картин, ни стихов не пишет. Если бы писал, ты бы ему любые фокусы спустила. Он был бы неистовый творец. Ему было бы позволительно творить такое, что и назвать стыдно. Скажи-ка мне…
— На сей раз ты можешь потерять нечто большее — потерять уважение к себе. Подумай об этом.
— Скажи-ка, каким художникам позволительнее безобразничать — реалистам или абстракционистам?
— И, услышав звонок, шагнула к динамику домофона, чтобы лучше расслышать консьержа. Впрочем, она и так знала, кто это пришел. Мартин, любовник ее матери, уже поднимается в лифте.
3
Подписал какую-то бумагу. Потом еще одну. Люди на каталках, люди в инвалидных колясках; тех, что в колясках, совсем немного. Писать свое имя трудно, завязывать на спине тесемки больничного халата — еще труднее. Рядом была Лианна, помогла. Потом она куда-то пропала, а санитар усадил его в коляску и повез по коридору, в один кабинет, в другой, в третий. Приходилось ждать — экстренные больные шли вне очереди.
Врачи в хирургических костюмах и масках проверили проходимость дыхательных путей и измерили давление. Их интересовало, может ли его травма привести к летальному исходу из-за кровотечения или обезвоживания. Определили содержание кислорода в крови, внимательно изучили ушибы, заглянули в глаза и уши. Сделали ему кардиограмму. За открытой дверью в коридоре проплывали капельницы — он видел. Проверили, может ли он сжать в руке какой-то предмет, сделали рентген. Говорили что-то, чего он так и не смог понять, о связках и сухожилиях, разрывах и растяжениях.
Один извлек осколки стекла, торчавшие из его щек и лба. Пока длилась операция, врач говорил без умолку, а сам орудовал инструментом, который назвал кохером, предназначенным для мелких, неглубоко засевших стеклышек. Врач сказал, что самые тяжелые в основном находятся в больницах на Среднем Манхэттене или в травматологическом центре на пирсе. И что уцелевших поступает меньше, чем ожидалось. Взбудораженный событиями, врач все говорил и говорил, не мог остановиться. Врачи и добровольцы сидят без дела, сказал он, ведь люди, которых они дожидаются, в большинстве своем так и остались под руинами. Он сказал, что осколки, которые засели поглубже, будут вытаскивать корнцангом.