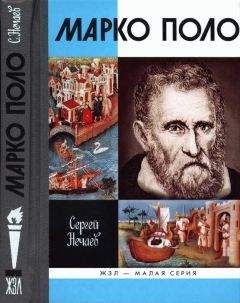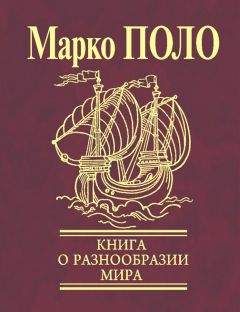Что это? Почему столько забыли? Почему не уносят куда-нибудь? Их же могут украсть? Они мешают ждать багаж… Или «ждать багажа»?.. Ох, эти формы генитива!
На паспортном контроле я не знал, куда идти, — значка Евросоюза нигде не было. Я отстоял очередь, и, к счастью, всё прошло хорошо: девушка в пилотке выстукала мои данные в компьютере и, прижимая телефонную трубку плечом и говоря вполголоса что-то про рыбку и зайку, щелкнула штемпелем и лукавым взглядом лаконично приказала уходить.
Когда я вышел наружу, с чемоданом, сумкой и открытым паспортом, один таксист сказал другому вполголоса:
— Вон лох голландский! Возьмешь?
— Не голландский, а германский! — бодро отозвался я, как Вы учили («всё обращать в шутку, ибо русские смешливы и непосредственны, как дети; смех — их врач, шутка — медсестра»). Конечно, он шутит — разве я похож на лох-несс-монстра?..
— Да ты спец! Тебе б на стрёме стоять! — похвалили они меня.
Я поехал, но был все время начеку, размышляя, что такое «на стрёме». Не из того ли набора, о котором Вы говорили, что в нём — вся эволюция рода человеческого, мы ещё учили его хором наизусть: «Из времени родилось пламя, из пламени — семя, из семени — племя, из племени — имя, имя встало на знамя, всем — на бремя…»Но я на всякий случай был настороже — наобум ничего не говорил (помня из семинара, что «за наобум бывает бум-бум»).
Пока ехали, шофер долго и фонетически отчетливо ругал правительство, я почти всё понимал, а кое-что даже успевал записывать в мой электронный словарик (простые двухтактные лексемы вроде «моль из подворотни», «сука цветная»), уточнял:
— Это шутки народа?
— Да, шутки-прибаутки…
— Прибаютки? От «баю-баю», спать?
— Вроде того…
И я пару раз повторил в уме «прибаютка», потому что очень люблю сразу осваивать и пускать в ход новые лексемы и идиомы, хотя, конечно, иногда делаю ошибки, но тот не ошибается, кто ничего не говорит.
Когда шофер узнал точнее, где живет Виталик, то сказал:
— Да это же у чёрта на рогах! Ты вначале один проспект говорил, а теперь совсем другое… Туда стольник баксов тянет! Кризис! — что мне не очень пришлось по душе: и чёрт, и рога — оба слова ругательные, да еще вместе со «столиком» и «тянуть»… Вы же знаете, у нас говорят: «jemanden über den Tisch ziehen» — «перетянуть через стол» в значении «обмануть»… Но я промолчал.
Потом шофер спросил:
— Ты откуда, с Прибалтики?.. Хорошо по-русски говоришь… У вас дороги не такие хреновые, небось?
— Я не боюсь, — ответил я.
— Чего?.. Хотели было дороги ремонтировать, да кризис пришёл… Вот скажи мне, что у нас за страна такая — всё через задницу делать?.. У вас, небось, под дождем асфальт не кладут?
— Я не боюсь. Не кладуют, нет.
— А у нас как дождь — так асфальт класть…
— Почему?
— А скажи?.. — Он даже отпустил руки от руля.
— Что сказать? — опешил я (внутри себя я всё понимаю быстро, но, когда волнуюсь, не сразу могу искать и ловить нужные слова). — У вас дождь часто ходит?
— Где?.. А… Идёт… Да нет. Тут дело не в дожде. Что плохо сделано — часто чинить надо, правильно?.. А на починку что нужно? Правильно: бабло…
— Бабло? — на всякий случай переспросил я (в Вашем «Словарике жлобского языка» было слово «бабки» — наверное, то же самое). Ну да, вот он объяснил:
— Значит — деньги, бабки… капусту из бюджета выписывают, а потом распиливают…
— От «пилить-распилить»? Капуста? Пилой? — Я уже всерьез забеспокоился, правильно ли понимаю его речь.
Он засмеялся:
— Зачем пилой — ручкой! Вот я строитель, должен дорогу отремонтировать, а ты — инспектор, должен меня проверить. Я пишу отчет, что я всё сделал, а ты подписываешь, что да, проверено, всё сделано честь честью. А деньги за всю эту бодягу мы делим пополам, хотя ничего не сделано или сделано тяп-ляп… Вот и всё. Потому это «пилить бабло» называется… А там, наверху, в кабинетах, большой калым от перестроек и ремонтов капает. А если они хорошую дорогу сделают, с-под чего им потом бабки тянуть?..
Я хотел уточнить, что такое «бодяга», но он стал спрашивать про цены в Германии на битые машины и автобусы. К сожалению, я мало разбираюсь в машинах, тем более в битых, несмотря на то что мой папа Клеменс работает на заводе «BMW». Когда я сообщил об этом шоферу, он очень обрадовался:
— Да ты чего, в натуре?.. — (Вот и первые слова из Вашей «Памятки»!) — На самом заводе?.. Вот здорово!.. Дай телефон, приеду к вам, будем битую машину закупать, а тут чинить и продавать — у меня шурин автосервис открыл. Тут всё сбагрим, как два пальца… Тебя в долю посажу, ты на месте машины искать будешь… Пятнадцать процентов тебе хватит?.. Посмотри, есть там блокнотик? — Он перегнулся и долго искал бумагу, ведя машину вслепую.
Я хотел сказать, что я не хочу помогать ему покупать-купить битую машину, но решил не отказывать и написал в блокнотике свой домашний телефон, специально пропустив одну цифру (как Вы советовали поступать в тех случаях, когда лучше не обострять: «не отказывать, но и не соглашаться»). Он оживленно стал прятать блокнотик в карман:
— Похоже, где-то тут хоромы твоего Виталика. Ну, до встречи в Мюнхене! Удачи! Ладно, полтинника хватит!
Вот подъезд № 4. У входа сидят бабушки в платках, какие носила русская кормилица моей матери, баба Аня, Бабаня.
Она была из остарбайтеров, попала служанкой в нашу семью, вырастила и выходила мою больную с детства мать, а после войны осталась, потому что ехать ей было некуда и не к кому. Она была женщина простая и добрая, немцев всегда ругала, но так заботилась о маме, что соседи приводили её всем в пример. Свою родину Россию жалела, вздыхала: «Глупая, всем всё дает, а сама без исподнего… душа нараспашку и карман распорот: сколько туда вечером ни сунь — утром ничего не останется…» С мамой (а потом и со мной) Бабаня говорила только по-русски, меня называла Фредя. Помогала делать уроки русского, который я выбрал в гимназии как второй язык (чему все были рады, особенно безрукий дед Адольф, считавший, что войны между Россией и Германией никогда больше не будет, и не потому, что Россия такая хорошая, а потому, что Германия получила от неё такой урок, который навечно застрял в её генном мозгу). И я давно мечтаю проверить себя на деле, в стране языка, где никогда не был!
В подъезде под лестницей сидела старушка в платке (похожая на мышку-норушку из сказки, что мы прорабатывали в прошлом семестре). Она отставила кружку, вытерла рот углом платка и строго спросила:
— К кому? Откудова такой? — и потребовала паспорт.
Долго сверяла мое лицо со снимком, говоря:
— Надо же, скажите пожалуйста… Немець… Откуда? Не из-под Нюрнберга, чай?
— Чай? — не понял я, но на всякий случай подтвердил, что да, хочу пить чай с моим товарищем. Нет, не из Нюрнберга, из Мюнхена. Виталик Иванов меня в гости звал-позвал (я часто употребляю обе формы глагола, потому что не знаю, какая будет правильной).
— Вас всех и не углядишь, — неприязненно сказала она, вписала что-то в свою тетрадь, неохотно отдала паспорт и вернулась к кружке свинцового цвета. — Можете идти. Свободны.
Я пошел по лестнице наверх, думая о том, что похожая кружка, только со вмятиной от пули, хранилась у нас в семье. Она — единственная — осталась от дяди Пауля, когда он, наконец, умер в нашем подвале, где просидел после войны десять лет, пока ловили бывших эсэсовцев (а он был офицер дивизии СС «Мёртвая голова»). Моя мать должна была каждое утро опускать на веревке в подвал корзину с хлебом, колбасой и бутылкой шнапса, а взамен поднимать ведро с нечистотами. Пауль в подвале свихнулся и целый день в голос молился, отчего мама иногда в истерике кричала: «Я больше не могу, я схожу с ума — в нашем доме поселилось огромное насекомое! И оно жужжит, жужжит, жужжит!.. Лучше бы он застрелился тогда!» (намекая на тот грузовик, где перед приходом Советской армии застреливались по очереди офицеры СС: один стрелялся, пистолет выпадал из руки, другой брал пистолет, стрелялся, третий брал… А вот дядя Пауль был последним и не застрелился, а явился ночью в наш дом и залез в подвал).
Сам я этого всего не помню, я поздний ребенок. Моя мать, Клара фон Штаден, с детства была чахлой и слабой, часто болела, поздно вышла замуж и родила меня, когда ей было за сорок, а при родах чуть не умерла вместе со мной. Бабаня рассказывала, что я трудно рождался, не хотел вылезать на этот свет, врачи уже спрашивали отца, кого оставить в живых — мать или плод, оба не выживут, уже хотели резать плод по кускам, но приехал старый врач и выдернул меня щипцами из нирваны, хотя я лично его об этом не просил, о чем и говорил потом не раз моему психотерапевту… Бабаня еще говорила, что я родился такой белый, что меня носили по палатам и говорили: «Посмотрите, какой белый ребенок появился!»
Если бы не Бабаня, я бы много не знал… что, например, дядя Пауль умер в тот день, когда решил выйти сдаться: она была в кухне и видела, как он вылез, выпрямился, постоял так минуты две, шатаясь и скуля по-собачьи, потерял равновесие и рухнул обратно в подвал, сломав при этом себе спину… И хоронить пришлось ночью, в углу сада, куда никто после этого никогда не ходил. Мама потом объяснила мне, что дядя Пауль был очень грешен перед русскими, за что и лишился рассудка.