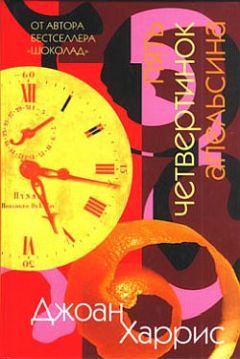Я заставлю их слушать.
2.
Меня зовут Фрамбуаз Дартижан. Я родилась здесь, в деревне Ле-Лавёз на Луаре, меньше чем в пятнадцати километрах от Анже. В июле мне, пропекшейся и пожелтевшей на солнце, как сушеный абрикос, стукнет шестьдесят пять. У меня две дочери: Писташ,[5] она замужем за банковским служащим и живет в Ренне, и Нуазетт,[6] которая в 89-м переехала в Канаду и пишет мне раз в полгода, а также двое внучат, которые каждое лето гостят у меня на ферме. Я ношу траур по мужу, умершему двадцать лет назад, под чьей фамилией я тайно и вернулась в родную деревню, чтобы выкупить ферму матери, давно заброшенную и наполовину истребленную пожаром и непогодой. Здесь я — Франсуаз Симон, la veuve Simon,[7] и никому не приходит в голову связывать меня с семьей Дартижан, уехавшей отсюда сразу после той страшной истории. Не знаю, почему меня потянуло на эту ферму, в эту деревню. Возможно, это все мое упрямство. Но так случилось. Здесь моя родина. Теперь годы жизни с Эрве кажутся безликим полем, как те до странного ровные пятна, которые порой проглядывают средь бушующего моря: миг затишья, забвения. Но Ле-Лавёз по-настоящему я не забывала никогда. Ни на минуту. Частью себя я всегда оставалась там.
Почти год ушел на то, чтобы придать усадьбе жилой вид, все это время я жила во флигеле с окнами на юг, там хотя бы крыша держалась. Пока рабочие чинили крышу, выкладывали ее черепицей, я трудилась в саду — вернее, в том, что от него осталось, — обрезала, подравнивала ветки, стаскивала со стволов целые охапки хищного вьюнка. Кроме апельсинов, которых она в доме не терпела, мать обожала все фрукты и ягоды. Она и нам давала имена по названиям плодов и лакомств собственного изготовления. Кассис[8] назван в честь ее пышного пирога со смородиной, Фрамбуаз[9] — в честь ее малиновой наливки, а Ренетт — в честь ее торта со сливами ренклод,[10] reine-claude, зеленоватыми, росшими у нас у южной стены дома, налитыми, точно виноградины, истекавшими соком от осиных налетов в зените лета. Когда-то плодовых деревьев у нас было больше сотни — яблони, груши, сливы, сливы-венгерки, вишни, айва, не говоря уже о малине и клубничных полях, крыжовнике, смородине. Все это сушилось, закладывалось на хранение, превращалось в варенье, наливки, начинки для изумительных круглых ягодно-фруктовых пирогов из pâte brisé[11] с crème pâtissière[12] и миндальной массой. Моя память пропитана плодовыми ароматами, этими красками, этими названиями. Мать пестовала плоды, как любимых детей. Сады окуривались от заморозков, на что тратилось наше домашнее зимнее топливо. Каждую весну земля вокруг стволов щедро сдабривалась навозом. А летом мы, чтоб отваживать птиц, привязывали к ветвям вырезанные из блестящей бумаги фигурки, и они подрагивали и посверкивали на ветру; мастерили трещотки из пустых консервных банок, развешивали их на туго натянутой проволоке, чтоб издавали зловещие, пугавшие птиц звуки; сооружали из цветной бумаги ветряные мельницы, дико вращавшие лопастями, — и сад, карнавально переливаясь всеми этими побрякушками, сверкающими ленточками и звенящими проводками, превращался в настоящий рождественский праздник посреди лета.
Всем деревьям мать давала имена.
Belle Yvonne[13] — так называла она грушу с корявым стволом. Rose d'Aquitaine. Beurre de roi Henri.[14] Произносила их имена благоговейно, почти как заклинание. Было непонятно, то ли мне говорит, то ли себе под нос. «Конферанс. Вильямс. Ghislaine de Penthièvre».
Сок сладостный.
Сейчас деревьев в саду осталось меньше двадцати; правда, мне этого вполне хватает. Моя кисло-сладкая вишневая наливка здесь особо ценится, но мне немного совестно, что я не помню, как эту вишню зовут. Секрет в том, чтоб оставлять косточки. Накладываешь слоями вишню и сахар в стеклянную банку с широким горлом, каждый слой слегка поливаешь чистым спиртом — лучше всего вишневкой, хотя можно и водкой, а то и арманьяком, — и так до половины банки. Сверху еще раз спиртом — и ждешь. Раз в месяц легонько поворачиваешь банку, чтоб растекался скопившийся сахар. Через три года спирт как следует проберет вишни, пропитается густокрасным соком, проникнет до самой косточки, до самого сердцевинного ядрышка, станет забористым, тая в себе крепкий аромат прошедшей осени. Разливай в маленькие стаканы, ложечку опусти, чтоб вишенку вылавливать, задержи во рту, пока размягченный плод не растворится под языком. Легонько надави зубом косточку, чтоб брызнул из нее затаившийся внутри крепкий нектар, и погоди, не проглатывай ягоду, перекатывай во рту, играючи кончиком языка туда-сюда, как бусину четок. И вспоминай, когда эта вишня вызрела, то самое лето, ту самую жаркую осень с обилием осиных гнезд, когда от зноя пересох колодец, то время, ушедшее, утраченное и снова обретенное в твердой сердцевине плода.
Вижу, вижу. Вам не терпится, чтоб я перешла к сути. Но и это важно не меньше, чем все остальное: как рассказать и как долог будет рассказ. Я ждала пятьдесят пять лет, прежде чем решилась начать, так уж теперь позвольте мне поступать по собственному разумению.
Возвращаясь назад в Ле-Лавёз, я была почти уверена, что ни одна живая душа теперь меня не узнает. И расхаживала по деревне открыто, даже немного нарочито. Если кто меня узнал, если кому удалось разглядеть во мне сходство с матерью, пусть сразу все и откроется. Хотелось ясности с самого начала.
Каждый день я ходила на Луару, садилась на плоские камни, где когда-то мы с Кассисом ловили линя. Вставала на пень у Наблюдательного Пункта. Теперь уже недостает иных из Стоячих Камней, но по-прежнему сохранились крюки, на которые мы вешали свою добычу, венки с лентами; куда повесили голову Матерой, когда наконец та была поймана.
Я зашла в табачную лавку Брассо — теперь в ней хозяйничает его сын, но старик все еще жив, взгляд хмурый, злой, незамутненный; зашла в кафе Рафаэля, на почту, где почтмейстером теперь Жинетт Уриа. Сходила даже к памятнику жертвам войны. По одну сторону там имена восемнадцати солдат, погибших на войне, сверху высечено: «Morts pour la patrie».[15] Увидела, что имя моего отца затерто и между «Дариус Ж.» и «Фенуй Ж.-П.» образовалось пространство. По другую сторону медная пластина с десятью именами более крупно. Эти читать было незачем; их я знала наизусть. Но интерес я проявила, зная, что непременно кто-нибудь возьмется поведать мне эту историю, возможно, даже покажет то место у западной стены церкви Святого Бенедикта, расскажет, что каждый год здесь служат специальный молебен в их память, а со ступеней мемориала зачитывают их имена, возлагают цветы. Все думала, вынесу я это или нет. Поймут ли они что-нибудь по моему лицу.
Мартэн Дюпрэ, Жан-Мари Дюпрэ, Колетт Годэн, Филипп Уриа, Анри Лемэтр, Жюльен Ланисан, Артюр Лекос, Аньез Пети, Франсуа Рамондэн, Огюст Трюриан. Многие еще помнят. Многие — те же имена, те же лица. Семьи по-прежнему здесь живут, и Уриа, и Ланисаны, и Рамондэны, и Дюпрэ. И через шестьдесят лет они все еще помнят; молодые, как водится, впитали ненависть с молоком.
Некоторый интерес возник и ко мне. Некоторое любопытство. Тот самый дом, заброшенный, с тех пор как его покинула та самая, эта Дартижан. «Точно не знаю, мадам, но отец мой… мой дядя…» Всем интересно было узнать, почему я польстилась на этот дом. Он торчал здесь бельмом у всех на глазу; проклятое место. Все еще сохранившиеся деревья уже наполовину сгнили, оплетенные омелой, пораженные паршой. Колодец забетонировали, забив камнями и галькой. Но я помнила ферму ухоженной, цветущей, с налаженным хозяйством: лошади, козы, куры, кролики. И тешила себя мыслью, что, может, дикие животные, забредавшие на северный край, — их потомки; и, случалось, замечала на темных шкурках белые пятна.
Удовлетворяя любопытство местных жителей, я выдумала историю про свое фермерское детство в Бретани. Сказала, что земля здесь дешевая. Говорила робко, как бы оправдываясь. Некоторые старики косо поглядывали: видно, решили, что ферма навек должна оставаться у них вроде мемориала. Я одевалась в черное и убирала волосы под платок. Напомню, что лет мне уже было немало.
И все же приняли меня далеко не сразу. Народ со мной был вежлив, но не особо приветлив, а так как я по природе не слишком общительна — мать звала меня дикаркой, — так оно все и текло. В церковь я не ходила. Понимала, как на это посмотрят, но заставить себя не могла. Возможно, из гордости или из того же своенравия, которое толкнуло мою мать назвать нас в честь плодов, а не в честь церковных святых. Только мой магазин и способствовал моему сближению с местными.
Началось с магазина, хотя чуяла я, что этим дело не ограничится. Прошло два года с моего переезда, и деньги Эрве почти закончились. Теперь дом имел жилой вид, но земля оставалась практически не использованной — десяток деревьев, небольшой огород, две тощие козы, немного кур и уток, вот и все хозяйство. Понятно, что доход от земли получается не вдруг. Я стала печь и продавать сладкие изделия — бриоши, pain d'épices[16] местного образца, а также кое-какие из бретонских изделий моей матери, горы crêpes dentelle,[17] торты с фруктами и множество sablés,[18] разного печенья, ореховых хлебцев, коричных хрустиков. Сперва продавала свои изделия через местную булочную, затем прямо из дома, понемногу добавляя кое-что и еще: яйца, козий сыр, фруктовые наливки и вино. На выручку обзавелась свиньями, кроликами, еще прикупила коз. Я использовала старые рецепты матери в основном по памяти, но время от времени все же заглядывала в альбом.