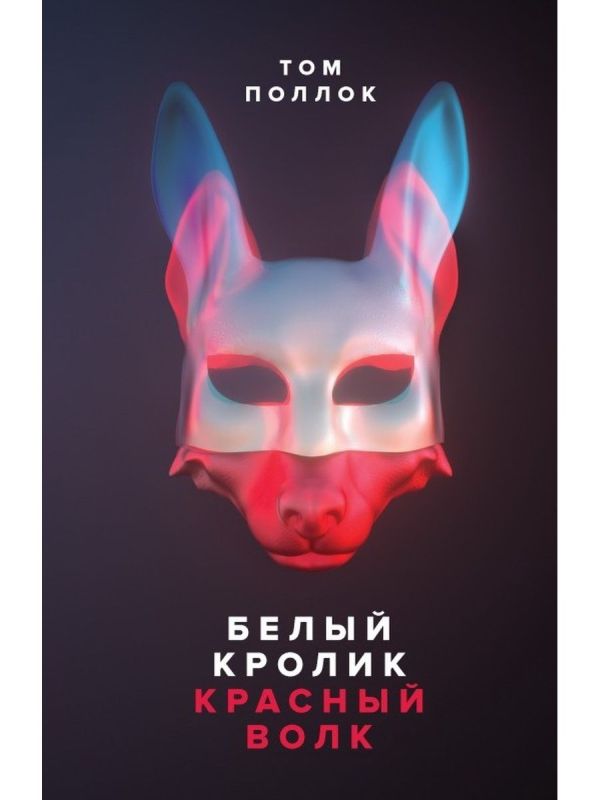Важный день, Питти. Непомерно, несказанно важный, и очень, очень публичный. Одним неверным движением ты испортишь жизнь не только себе, но и всей своей семье, так что постарайся, постарайся уснуть — тебе это нужно.
Я таращился в потолок. Посмотрел на часы. Три часа двадцать девять минут. Идеальные условия.
Питер, внимание всем постам. Это центр управления полетами. Мы в полной боевой готовности. Даю разрешение, повторяю, даю разрешение на гребаный истерический припадок.
Все началось как обычно: тянущая боль в животе, которую раньше я принимал за голод, вот только никакая еда не могла бы его утолить.
Три часа пятнадцать минут. Три часа четырнадцать минут и пятьдесят три секунды, пятьдесят две секунды, пятьдесят одна… Это же одиннадцать тысяч шестьсот девяносто секунд. Я не успею.
Чувствуешь? Чувствуешь тошноту? Если закрыть глаза, можно ощутить, как она разбухает в животе, и это еще цветочки. Ты станешь сомнамбулой, и постарайся сделать все в лучшем виде. Потому что стоит тебе оступиться хотя бы на полшага, и приступ настигнет тебя там. Не здесь, не дома, где мама и Белла придут на помощь, а там, во внешнем мире, где тебя увидят — увидят люди, которые будут снимать всё на свои телефоны. И тогда это окажется на YouTube — твоя кровь попадет в цифровое море. Она расплывется повсюду и замарает собой все. И все увидят, и осудят, и узнают.
Я тяну время. Мамина ручка зависла над блокнотом.
— Физические симптомы — как обычно? — спрашивает она.
— Тяжесть в груди, — подтверждаю я, загибая пальцы. — Учащенный пульс. Головокружение.
— Ладони?
— Взмокли, как паховый бандаж Лэнса Армстронга.
Снова Взгляд № 4.
— Можно и без красочных сравнений, Питер.
— Прости. — Я закрываю глаза и вспоминаю: — В общем, я испробовал три линии обороны, как мы и говорили…
ПЕРВОЕ: Двигайся.
Я выскочил из постели и бросился к лестнице. Движение полезно: движение разгоняет кровь по венам, по мышцам. Оно вынуждает дышать, когда каждый вдох дается с трудом.
ВТОРОЕ: Говори.
Я — скороварка, а мой рот — выпускной клапан. Сквозь стиснутые зубы я выпускаю наружу поток лихорадочного бреда, кружившего у меня в голове. Иногда мне достаточно услышать бред, который приходит в голову, чтобы убедиться в том, какая же это чушь.
— У тебя случится величайший, эпический публичный приступ паники в истории мира. Ты станешь вирусным видео. Да каким вирусным, блин, пандемическим. Люди начнут снимать реакции детей на реакции детей на твой приступ, и их реакции наберут сотни миллионов просмотров. Ты изменишь лексикон. Слово «припадок» исчезнет из обихода, вместо него будут говорить «Питти», типа «у него случился Питти». В следующий раз, когда возведенную на коленке урановую электростанцию смоет приливом, а циркониевые прутки пойдут трещинами, и гамма-излучение затопит окружающие города онкологической эпидемией, каждая передовица каждого новостного сайта в интернете будет пестреть заголовками о «Ядерном Питти»!
Ладно, это немного чересчур. Я понемногу успокаивался.
— Ты публично обосрешься, в самом прямом смысле.
Я споткнулся на нижней ступеньке. А вот это уже звучало чудовищно правдоподобно.
Я побежал на кухню, налетел на угол стола, как какая-то неуклюжая балерина, и принялся лихорадочно метаться по комнате в поисках чего-то, за что можно было бы зацепиться. Но я увидел только открытые полки, заставленные пачками с хлопьями и макаронами, шкафчики из сосны, большой серебристый холодильник и мое мутное, жуткое отражение. На плите горели зеленые цифры часов: 03:59.
Десять тысяч восемьсот одна секунда.
ТРЕТЬЕ: Считай.
Отвлечься. Расщепить приступ на фрагменты и пересчитать их — эти маленькие временные буйки. Сосредоточиться на том, чтобы удержать голову над водой, пока не доберешься до следующего.
— Один, — сказал я. — Два.
Но мой настоящий голос вслух звучал слабо, как из-под крышки, по сравнению с обратным отсчетом, идущим в голове.
Десять тысяч семьсот девяносто секунд…
— Три… четыре… — выдавил я, но ничего не помогало.
Отдельная часть моего мозга взяла счет на себя, чтобы панике ничто не мешало и ничто ее не сдерживало. Чтобы отвлечься от болезненного ощущения в нижней части живота, требовалось что-то другое, какая-нибудь более сложная головоломка.
— Вот тут-то я и облажался, — рассказываю я маме.
— Да ну?
— Я перестал считать целые числа и перешел к квадратным корням из них.
Мама не сводит с меня глаз.
— Сколько знаков после запятой? — спрашивает она в конце концов.
— Шесть.
Она морщится.
— 2,828427; 3; 3,162278; 3,316… — Я запнулся. Слоги теснились во рту, как мраморные шарики, липкий пот на ладонях и между лопатками. Я попробовал еще раз: 3,316…
Бесполезно: у меня заканчивались числа.
Я в отчаянии огляделся, ища что-то еще — что угодно, лишь бы заполнить чем-то ревущий водоворот внутри меня. Глаза защипало, сердце пьяно заколотилось под ребрами. В тусклом свете уличного фонаря кухня словно сжималась, стены заваливались друг на друга. На секунду мне показалось — я слышу, как скрипят балки.
Иногда, когда становится совсем плохо, я вижу и слышу то, чего нет. Черт. Как все до этого дошло? Я насилу сглотнул и потянулся к экстренной кнопке — «в случае аварии разбить стекло» — в последней попытке сохранить рассудок.
ЧЕТВЕРТОЕ: Поешь.
Я бросился к холодильнику и вытащил из него контейнер с карри, оставшимся с ужина. Липкое коричневое месиво морозило пальцы, когда я запустил пятерню в контейнер и начал поглощать еду. Я жевал торопливо, задним умом беспомощно понимая, что не смогу заполнить вакуум внутри достаточно быстро; надеясь, что вес пищи придавит поднимающуюся из желудка панику и не выпустит ее наружу.
— И дальше пошло-поехало.
Мама хмурится и строчит в блокнот. Она делает пометки лишь изредка, отмечая детали, которые, как ей кажется, могут оказаться важными при последующем анализе.
— Допустим, — говорит она. — У тебя кончились числа, и ты поел. Ситуация не идеальная, но на тот момент ты сделал все, что мог. Однако это, — она кивает на половинчатую солонку в моем кулаке, — едва ли оптимальный вариант для заедания стресса.
Не сводя с меня глаз, она высвобождает солонку из моей хватки и кладет мне в ладонь свою руку. Ее пальцы сжимают мои. Она распахивает дверь кладовки и выводит меня из укрытия. Кухня выглядит так, словно футбольные фанаты устроили здесь погром. Шкафы распахнуты настежь, ящики сорваны с реек и опрокинуты на пол. Повсюду валяются картонные коробки, банки из-под солений, обертки, шкурки и кусочки засохших макарон. Пол припорошен мукой, как ленивым английским снегопадом.
— У меня кончились числа, — шокированно бормочу я. Я даже не помню, как это сделал. — А потом… — и я сгораю со стыда, охватившего меня, как огонек, взметнувшийся по листку бумаги, — у меня кончилась еда.
Мама щелкает языком по внутренней стороне зубов. Она закрывает блокнот, кладет его в карман, присаживается на корточки среди мусора и начинает наводить порядок.
— Мама, — говорю я тихо, — давай я.
— Иди спать, Питер.
— Мам.
— Тебе нужно выспаться.
— А тебе не нужно? — я чуть ли не вырываю ящик из ее рук. — Это тебе через семь часов вручают награду. Ты будешь произносить речь.
Я не могу придумать ничего страшнее, чем произнести речь перед публикой. А я провожу немало времени думая о страшных вещах. Мама сомневается.