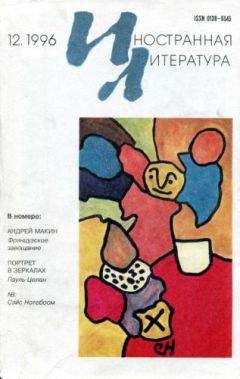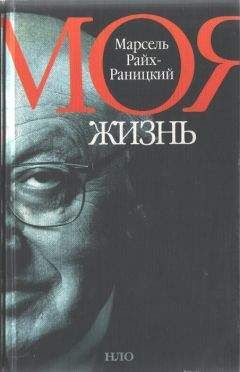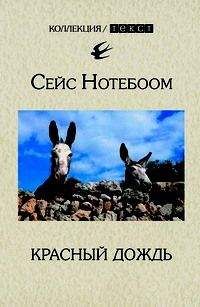«Ненавижу свет дня».
И потом еще раз, словно знала, что это будет за день: «Ненавижу свет дня».
Что потом? Она приняла душ, крикнула, что кофе ей не нужен, вихрем пронеслась по комнате, загнав перепуганную Летучую Мышь под одеяло, я увидел еще, как рыжие волосы мелькнули на мосту через канал. Пробовал представить себе, как это будет, когда она все время будет здесь, и не мог. Тогда попытался приготовиться к своему первому на тот день уроку: Цицерон, «De amicitia»,[54] глава XXVII, параграф 104, — урок, который мне никогда уже не провести, но и этого тоже не мог. Я выламывал латинскую фразу из постройки, разрушал ее конструкцию, перетаскивал глаголы с конца поближе вперед («Дамы и господа, сервирую вам это уже готовым к употреблению и предварительно разжеванным, остается только проглотить, коли уж вы так приржавели к строю отечественного предложения»), но не получалось, не хотелось, я сидел рядом с ней в вагоне поезда, а час спустя мне уже пора было и выходить. Все вокруг выглядело по-иному, парапет моста через канал, перила, лестница Центрального вокзала, пастбища вдоль железнодорожного полотна, вдруг как-то неприятно стало от впечатления, что они помешаны, зациклены на самих себе, они принялись рассказывать мне самые дурацкие вещи обо всем что ни попадя, мир предметов ополчился на меня, так что я уже был предупрежден, прежде чем вошел в учительскую. Первым, кого я увидел, был Аренд Херфст, и сидел он, поджидая меня. Не успел я снова повернуться к двери, как он уже стоял рядом со мной. Он был небрит, от него разило перегаром, какие-то вещи непременно должны происходить по одному и тому же шаблону. Следующий этап — сгрести в охапку, прижать, рвать за одежду, вопить. Затем должен войти кто-то, кто замнет дело, разведет стороны.
«Херман Мюссерт, пошли поговорим. У меня много кое-что есть тебе сказать».
«Не сейчас, попозже, у меня урок».
«Твой урок мне до задницы, ты с этого места не сойдешь».
Такое показывают не часто, один преподаватель гонится за другим преподавателем, тот удирает. Я едва добежал до дверей своего класса, попытался войти степенно, насколько было возможно, но он снова выволок меня в коридор. Я вырвался и бежал — на площадку для игр. Место для спектакля было выбрано блестящее, так как теперь вся школа могла наблюдать из окон, как мне задают трепку. Пересчитать ребра и показать пятый угол, так это вроде называется. По обыкновению, я успевал заниматься сразу всем одновременно: падал, поднимался на ноги, заливался кровью, пытался хоть как-нибудь давать сдачи, отмечал вопли, издаваемые его настежь распахнутой кретинской пастью, — когда мог его еще видеть, пока он не сбил с меня очки. Я принялся ощупывать руками землю вокруг, знакомый предмет сунули мне в ладонь:
«На, держи свои стекляшки, засранец».
Когда я их снова надел, все уже опять переменилось. Во всех окнах виднелись бледные лица моих учеников, белые маски с застывшим на них выражением плохо скрываемой радости. Да и было на что посмотреть: огромная шахматная доска из камня с пятью фигурами, две из которых стояли неподвижно, в то время как ректор передвигался по направлению ко мне, Мария Зейнстра бежала в сторону Аренда Херфста, который, в свою очередь, бросился к Лизе д'Индиа. В тот самый момент, когда ректор приблизился ко мне, Херфст отшвырнул Марию Зейнстра с такой силой, что та рухнула наземь. Она еще не успела встать на ноги, как ректор уже выпалил, запыхавшись: «Господин Мюссерт, ваше дальнейшее пребывание здесь стало невозможным», — но одновременно с этим Херфст схватил д'Индиа за локоть и потащил ее за собой.
«Аренд!»
Это был голос той, которая еще утром говорила мне, что хочет жить со мной. Теперь все замерло. Что-то приподняло меня над застывшей сценой, я глядел на происходящее сверху, словно не имел к ним никакого отношения: пожилой мужчина с перекошенным лицом, тыкающий перстом в залитого кровью мужчину, прижавшегося к стене, рыжеволосая женщина стоит посреди открытого пространства, еще один мужчина, пошатывающийся на нетвердых ногах, и девушка, которую тот сжал мертвой хваткой. И в этой тишине прозвучало лишь одно слово, то самое идиотское имя, которым школьники все время называли меня:
«Сократ».
Оно чего-то хотело, то слово. Жалуясь, причитая, оно не хотело покидать площадку для игр, оно все еще витало над нею, когда того, кто прокричал, или вымолвил, или прошептал это слово, там давно уже не было, его впихнули в машину, которая чуть дальше, в нескольких километрах, должна была столкнуться с грузовиком. И — нет, на похоронах я не был, и — да, Херфсту всего лишь переломало ноги. И — нет, о Марии Зейнстра я никогда и ничего больше не слышал, и — да, Херфст и я, оба мы были уволены, и супружеская чета Отэм[55] преподает где-то в городке Остин, штат Техас. И — нет, никогда мне больше не пришлось вести уроков, и — да, я превратился в автора пользующихся большим спросом путеводителей д-ра Страбона, лишь вооружившись которыми многие нидерландцы и отваживаются отправляться в опасную заграницу. Иногда, очень редко, мне встречается кто-нибудь из прежних моих учеников. Отвратительная взрослость завладела их лицами, те два имени, что парят над их головами, они не произносят никогда. Я — тоже.
Подошел Петер Харрис, остановился рядом.
«Мне казалось, ты ненавидишь свет дня», — сказал я. От него пахло спиртным, как от Аренда Херфста в то утро. Мир есть одна сплошная, никогда не прекращающаяся сноска, отсылка к чему-то. Но этот хоть не бил меня. Он протянул мне свою флягу, я отказался.
«Приближаемся к суше». Я поднял взгляд к горизонту, но ничего не увидел.
«Туда и смотреть нечего. Вон, внизу». Он показал на воду. Все наше плавание она была серой, или синей, или черной, или всех трех цветов сразу. Теперь она стала коричневой.
«Песок Амазонки. Ил».
«Откуда ты знаешь?»
«Прежде здесь уже бывать приходилось. Мы ведь все время держали курс на юго-запад. Через пару часов покажется Белен. Здорово португальцы придумали, мне всегда нравилось. В море уходишь из Белена и приплываешь тоже в Белен. Так что получается что-то вроде вечного возвращения. Ты-то в это, конечно, не веришь».
«Только у животных», — сказал я, просто чтобы ответить что-нибудь.
«Почему?»
«Они всегда возвращаются самими собою. Ты бы не увидел разницы между голубем 1253 года и нынешним. Это просто-напросто один и тот же голубь. Либо они вечны, либо они всегда возвращаются неизменными».
Белен. Он вставал перед моими глазами. Праса де Република, залитая знойным маревом, театр «Paz».[56] Это несчастье, когда везде уже побывал. Университет, зоопарк, анаконды, золотистые зайцы агути, хищники, собор восемнадцатого века. Все это можно найти в путеводителе д-ра Страбона. Да, я знал Белен. Ботанический сад Боске, тропическая флора, входной билет четырнадцать центов. Индейские проститутки. И музей Гёльди.[57] Познакомь меня с миром. Дорожный чемодан — мой лучший друг.
Коричневость воды стала жгучей, садняще-яркой. По воде плыли большие обломки деревьев, это была глотка гигантской реки, здесь целый континент изблевывал содержимое своих внутренностей, грязь стекала сюда с Анд, лилась сквозь искалеченные джунгли, цепляющиеся за последние свои тайны, скрывающие последних своих обитателей, потерянный мир вечного мрака, tenebrae.[58] Procul recedant somnia, et noctium fantasmata. Огради меня от дурных сновидений, пусть прочь отойдут химеры ночные. Об этом молятся монахи, перед тем как ложиться спать. Туман казался висящей над водой пеленою, завуалированность пространства. Вот-вот перед нами должны были показаться два безнадежно удаленных друг от друга берега, двое влюбленных, которым никогда не соединиться. Появились на палубе и остальные. Женщина с мальчиком, два старика, казавшиеся двойней, капитан с биноклем в руках, каждый в собственной своей нише, поодиночке или парами. Мои попутчики.
Биение волн утихло, подернутая дымкой пластина воды обратилась в чашу, в которой корабль лежал как дароприношение на жертвеннике. Двигались ли мы еще? Я смотрел на остальных, на странных своих друзей, которых не выбирал. Мы были случайным сопровождающим кортежем друг для друга, я принадлежал им, как и они мне. Оставалось уже недолго. «Золото и лес», — услышал я слова Харриса. Постепенно рассеиваясь, пропало его лицо под каштановой шевелюрой, я глядел на человека без лица, который, как ни в чем не бывало, продолжал говорить. Я уже начал привыкать к этому, ко внезапным исчезновениям, отсутствию, пустым контурам, рукам, о которых лишь догадываешься, что они есть и где они, их не видя. Золото и лес, я прислушивался, у мира было еще много о чем рассказать мне, обо всем, и, несомненно, он пока продолжал делать это. Золото, о нем тот призрак Харриса когда-то даже написал целую книгу, о великой золотой войне между Джонсоном и де Голлем, которой никто так и не заметил никогда, потому что Вьетнам отвлек все внимание от данного предмета. И тем не менее, война была настоящей, без солдат, но с жертвами. Об этом он написал книгу, и никто никогда ее не прочел. И лес, из-за него-то Харрису и приходилось раньше бывать здесь, в бассейне Амазонки, в потерянном мире, читал когда-то роман Конан Дойла, там тоже речь шла о корабле, что поднимался по Амазонке, «Эсмеральда». Золото и лес, он знал о них все. Золото долговечно, лес — нет. «Возвратись сюда через сто лет и увидишь здесь огромную пустыню, похлеще, чем Сахель. Вот тогда-то она и станет самым настоящим краем света, выхлебанное до дна болото, окаменевшая песочница».