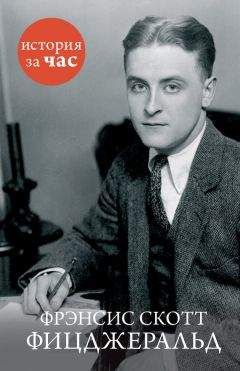Но вот она уже выходила из дома, шла на урок. И всегдашний ее вид (разве что еще бóльшая тщательность в одежде), и легкомысленная улыбка женщины, милой и удачливой, держали в недоуменном заблуждении сослуживцев и соседей: «Вот и детки выросли. Какая, верно, счастливая ваша жизнь!»
* * *
Хуже всего раздражали меня разговоры об университете: и что я туда редко езжу, и что, по-видимому, суждено мне идти в казенный дом, то есть в армию. Я отвык, чтобы кого-либо занимали мои дела. Говорили иногда об отце и о музыке. Хорошо говорили, но лучше все же было молчать. Особенно в ненастные вечера, когда ветер и дождь, и сентябрьская непогода, хорошо было слушать треск поленьев в печи и успокаивающий, уютный вой тяги и чувствовать холодный, мечущийся мир за стенами, понимать его стон, его музыку и знать, что об этом нет слов.
Но мама все время чего-то ждала. Ей казалось, вот кто-то придет, нагрянут гости из Питера, получим письмо. В такие вечера она нервно металась по дому, придумывала и себе, и нам ненужные занятия. И наконец застывала у окна, с видом на озеро, и до самой темени все глядела, как ветер рвет в лоскуты осиновые наряды рощи и гонит на маленький остров, в километре от дома, за волной волну.
Случалось, так она стояла часами. И тогда я не знал, куда деть, куда спрятать себя от любви к ней, к молчаливому силуэту перед бледным окном, и к отцу, где-то сейчас бредущему по вечерним улицам с футляром в руках, задыхающемуся от кашля, с замотанной шеей, в мокрых ботинках и старом пальто, и к Димке, притихшему за столом над тетрадями, сплошь исчирканными красным, к его теплым и мягким ушам и курносому носу. Тишина и молчание комнаты были перенасыщены нежностью и скрываемой болью.
По ночам я читал и читал — перестал спать. Начал огрызаться на замечания. А кончилось тем, что проиграл соседу-девятикласснику в пинг-понг и чуть не заревел. Отыграться не смог. Руки дрожали. Я не в силах был сосредоточиться, собраться. И очень удивился, когда нахлынуло: вот заплачу.
Утром я собрал вещи и перебрался на остров, где устроил шалаш. А Маша, когда приезжала, останавливалась у мамы, ночевала в моей комнате. Я приходил в гости, и она исчезала со мной.
Мама полюбила мою девочку. В них было что-то схожее. Особенно раздражало меня, когда по вечерам они сидели у печки вдвоем, и мама учила ее вязать.
Просыпаясь, я долго лежал в спальнике на хвойных лапах и на сене, вытянув ноги во всю длину шалаша. Если шел дождь, на ходу раздеваясь и засовывая одежду под куст, где посуше, я бегом спускался к воде. Если дождя не было, сладко потягиваясь, ловил ртом холодный воздух, раздевался не спеша и, расталкивая ногами низкий осенний туман, шел к озеру. Еловые ветки хлестали по голой спине.
Я умывался на берегу: водяные брызги покалывали тело, и вздрагивал живот. Потом разжигал костер, кипятил воду, заваривал чай, готовил завтрак, и даже брился перед осколком зеркала, загнанным в осиновый ствол.
В сухую погоду, засучив до колен джинсы, я бродил по острову босой, слушал осенний писк озябших птиц. Смотрел, как плещется рыба в озере на заре. Ветер трепал волосы, как перья. Со мной ничего не случалось, но что-то происходило. Я мучился от избытка ощущений и желал большего, совершенно невозможного. И ничего не мог поделать с собой. А любовь была проста и неповторима.
* * *
Я стоял у самой воды с веслом и смотрел, как Маша спускается по крутой тропинке вниз, к лодке, спрятанной в кустах. За деревьями мелькало белое платье. Ближе, ближе, все быстрей. Осторожней!.. Еще раз. И… Теряя равновесие, она прыгнула прямо в подставленные руки. Мы, смеясь, покатились в кусты. Ей не хотелось, чтобы ее отпускали. Но вот она уже стояла рядом на траве и не могла отдышаться.
— Твои обижаются, что не приходишь к завтраку.
— К заботам как-то не привыкнуть.
— Давай я буду о тебе заботиться.
— Давай по очереди.
— Меня долго не было?
— Вечность.
— Два дня.
Было холодно. Солнце скрылось. Лодка скользила к острову по осенней черной, прозрачной глади озера. Вода пузырилась, взрезаемая веслами. Желтые листья кружились за кормой в серебристой струе.
Шалаш из веток и сухой травы стоял на берегу среди мокрых елок. Рядом чернел потухший костер. Маша присела на камень у воды. Время от времени она нетерпеливо смотрела в мою сторону.
Я вытянул лодку на песок. Вытащил весла из уключин, бросил их в лодку.
— Ты соскучился? — спросила она.
В шалаше было тепло и сухо. Пахло сеном.
— Какой тяжелый, — сказала она. — Подожди, я сниму платье, помнешь.
* * *
Остров был высокий и травянистый. Он порос березняком и тонкими елями. С бугра были видны сизые дымы над крышами поселка за осиновой рощей. Поселок протянулся вдоль ручья, в ложбине, между холмами и шоссе. К северо-западу, в сторону финской границы, проносились стаи машин: иномарки, автобусы с туристами. Навстречу тянулись грузовики. Запоздалые дачники, погрузив скарб на колеса, возвращались в город. Питер за черными холмами, за озерами казался забытым и чужим. Он угадывался в сизой дымке. Но ветер гнал прочь туманы, солнце золотило леса, по темно-зеленым склонам бежали желтые пятна. И мрачная громада отступала к невидимым отсюда своим границам.
Я пропускал через себя солнечные последние дни сентября. Меня не оставляла сладостная тоска по уже прожитым неделям и жажда нового счастья, которое дарил каждый день.
Ощущения были похожи одно на другое, и каждое приносило усталость. Но они не были одинаковы. Они просто не могли быть однолики. Я захлебывался от разнообразия. Оттенки волновали меня, и грусть по неповторимому.
Осень установилась мягкая, и перелетные птицы не торопились на юг. Мы бродили по острову вдвоем и увидели кукушку.
— Это какая птица?
— Кукушка.
— Кукушка? Странно, правда?
— Отчего же странно?
— Серенькая птичка, незаметная. И вдруг кукушка: сколько «ку-ку» прокричит, столько и жить осталось. А сама невзрачная. Казалось бы, куда ей… Это мне цветок?
— Тебе.
— Интересный цветок, где ты его взял?
— Сорвал.
Мы исходили остров вдоль и поперек и вернулись к лодке. Маша поднесла цветок к лицу и стала отрывать лепестки и бросать в воду.
— Зачем оборвала лепестки?
— Чтобы рассмотреть строение. Интересный цветок.
В сумерках мы развели костер. Полная темнота надвинулась из-за деревьев. Ветер раскачивал голые ветви над головой. Стволы берез белели в отдалении. Кружились тени. Озеро дышало тяжело и пенилось на середине. Но у берега вода стояла тихая, тяжелая, густая. Опавшие листья и отсветы костра колыхались на спокойной воде.
— Так хочется остаться с тобой в лесу и пожить хоть сколько.
— Давай я утоплю лодку.
— Это слишком. Нельзя быть таким добрым. Добрые люди отдают все, что у них есть. И ты отдашь, и ничего не останется.
— А ты?
— Ты и меня отдашь.
Сделалось совсем темно. Ветер на середине озера прохватывал насквозь. Брызги летели в лицо. Я греб сосредоточенно и упорно. В ее глазах плясали огоньки домов на берегу.
Неужели можно забыть то, что никогда уже не повторится. И никогда не будет так плохо и так хорошо в одном и том же, — думал я. — В одном и том же… Глупое слово никогда.
— Ты меня не разлюбишь? — вдруг спросила она, словно бы почувствовала.
— Ты говорящий цветок. С глазами.
— Ведь больше не будет так хорошо. По-другому будет, а так никогда… Мне грустно. Я никогда еще тебя так не любила.
— Хочешь, утром принесу цветы?
— Лучше листья с острова. Их можно потрогать пальцами, а цветы завянут.
— Я принесу и цветы, и листья.
— Нельзя быть таким добрым. Ты совсем не думаешь о других. Почему молчишь?.. Поцелуй?
— Лодку перевернешь!
— Какой теплый, давай вместе грести.
— Ничего не получится.
— Ну и пусть. Только не прогоняй.
* * *
Мы простились у калитки. Никто не мешал. Маша спрятала лицо в стареньком свитере на плече и замерла. Я чувствовал телом ее сонное тепло. Потом на веранде зажегся свет, и она ушла по светлой дорожке между зелеными еще кустами смородины.
В темноте я бродил по спящему поселку, едва различая тропинки под ногами. И незаметно, сделав круг, вернулся к дому. Как магнитом, тянуло меня под ее окно. У забора стоял младший брат. Мы узнали друг друга даже не разглядев, скорее догадались.
— Ты обижаешься? — спросил братишка, в одиннадцать лет он был склонен все принимать на свой счет.
— Брось.
— А чего ты психуешь?
Я не отвечал, — взял его за локоть. Вместе мы подошли к озеру. В проулке между домами послышались голоса. Кто-то крутил ручку настройки: треск, свист, гул эфира, невнятные финские слова, кларнет. Хлопнула дверца автомобиля. В темноте вспыхнули красные лампы и погасли. Приемник работал в машине.