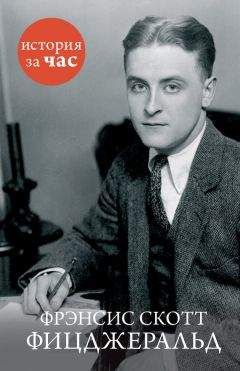Студенты, негры из университетского общежития, фарцовщики и центровые с Невского, матросы торгового флота и портовые грузчики, поднаторевшие на перепродаже пластинок, лабухи, музыкальные критики и всезнайки из джаз-клуба, битломаны и даже дипломаты собирались в розовом зале за тяжелыми столами, покрытыми застиранными, но крахмальными скатертями. У входа выстраивалась очередь. Седовласый швейцар в ливрее — вылитый адмирал — привычно отражал напор желающих: они осаждали ресторан. Для тех, кто замешкался, не успел, не позаботился заранее о месте, не оставалось надежды попасть в зал. Публика сидела до упора, как на концерте. «Идут и идут… — ворчал швейцар, запирая дверь перед возмущенным лицом женственного длинноволосого хиппи. — И что идут, медом им тут помазано? Плану от волосатиков-то не жди…» О чаевых он уже не мечтал. И верно, заказывали кофе и почти не ели. А пили тайком принесенное с собой. Публика собиралась слушать джаз.
По набережной, празднично освещенной огнями окон, спускаясь от моста через Невку в устье Кронверкского канала, в тот вечер я непривычно робел. «Вот возьмет и не пустит?..» С нарочитой уверенностью проталкивался через толпу на сходнях, внимавшую доносившимся с реки звукам оркестра. Уже представлял, как Цербер притворно меня не узнает, не открывает, и я остаюсь в теплой августовской толчее у входа. Разухабистые синкопы отчаянной ниточкой, звуковым пунктиром, как невидимым мостом, связывали меня с теми, кто внутри, в ресторане, кто тоже слушает и ждет. Ждет — в этом-то я был уверен. И оттого чувствовал себя, как провинившийся школьник, как прогульщик. И громче, чем требовалось, стучал монеткой в зеркальное стекло.
Недовольное лицо швейцара расплывалось в табачном дыму вестибюля. Проскальзывая в приоткрытую дверь, я слышал ропот за спиной и ворчливое бормотание сквозь бороду: «Разве можно так! Стекло расколешь. Папаше твоему век не расплатиться…»
Нетерпеливо, не дослушав упрек ворчуна, по крутому вертикальному трапу (ступени под мягким ковром окованы сталью) я поднялся в гудящее чрево ресторана, где сновали с подносами официанты в белых, уже не свежих куртках, пьяно звенела посуда, нелепая пара пыталась танцевать возле эстрады. Но самое главное: на краю площадки раскачивался высокий, тонкий, как трость кларнета, саксофонист. В свете ламп он казался взрослее, улыбался в зал бесстрастным знакомым лицом. И когда я вошел, — мне показалось, он увидел и опять улыбнулся.
Пианист выдыхался. Ударник подстегивал, подгонял ритм щетками. Торопил контрабас. Они оставляли его одного, оставляли совсем одного, опять вступали. Но вот: саксофон ухнул ночной разбуженной птицей. Звук вспорхнул. Оборвался. Упал. Словно слепой щенок тыкался по углам — не находил выхода… Плакал ребенок… Плач нарастал.
Мне махнули от столика. Рядом с отцом девушка в юбке гофре по тогдашней моде, в немыслимой блузке — бабушкины кружева — держала свободное место, закинув ноги на стул (в той ситуации единственный способ удержать). И я увидел замечательно круглые, как судьба, ее коленки, мгновенно взволнованный, улыбнулся и отметил — она тоже не выдержала, дрогнули губы. Злые брызги растаяли в глазах.
Ивлев спускался с эстрады. Отец встал из-за столика, рассеянно поправил платок в нагрудном кармане. Взял инструмент.
Зал обволокла грусть свободы… белая полевая дорога… долгая, ровная нота… обрыв… пассаж! И… саксофон сорвался: ветром швырнуло осенние листья, осознавший неизъяснимость всхлипнул… Кто-то прятался, за ним гнались по гремящим жестяным крышам, с дома на дом он перепрыгивал через узкие улочки-трещины, глубокие, словно пропасти, — я видел эти улочки, ясно помню (но где я их видел?).
Саксофонист рисовал сверкающей трубой в прокуренном зале.
Линия звука извивалась в табачном дыму.
— Где пропадал? — присев к столику, услышал я голос над собой и тут же получил ласковую затрещину.
— Ну, писал, — неуверенно недоговорил я заранее приготовленную фразу и, с этими словами, как бы оборвался вдруг, окончательно потерял остаток равновесия, ощутил незнакомую пустоту испуга под ложечкой и, в попытке спрятать взгляд, приник головой к худенькому плечу.
— Что ты о себе вообразил! — напустилось на меня светлоглазое и светловолосое существо. — Пропадал три дня. Завтра последний экзамен, а ты ни о чем не думаешь… Писака.
Глаза ее покраснели. Нос припух. Мне показалось, она плакала перед моим приходом. И я отвернулся.
— Есть будешь?
— Не хочется.
Я говорил правду — от усталости притупился голод.
— Я звонила каждые два часа.
— Ну и что?
Она удивленно посмотрела, готовая обидеться опять.
— Сам не мог позвонить?
— Вроде того, — сказал я вдруг жестко. — Не мог!.. Маша улыбнулась через силу и положила ладонь на мой голодный затылок.
И тут я почувствовал: даже пытаться описать случившееся — бессмысленно. Я бы мог поверить ей любую беду, но не эту.
Это был мой первый рассказ.
* * *
Сейчас трудно объяснить, с чего начался он. Скорее всего, с обычной записи в дневнике.
Неприкаянно я слонялся по квартире, сдвинул книги и старую (еще деда) пишущую машинку, лежал ничком на письменном столе перед раскрытым окном.
Мокрый после дождя, сад застыл в зеленом тумане. Влажный воздух, парной и насыщенный запахами отцветавшего лета, шевелился, заставляя дрожать изображение. Воздух был цветной. Он подымался волнами, почти осязаемый. Казалось, еще чуть, и воздушная волна плавно приподнимет меня над крышкой стола и вынесет наружу, за белую зону подоконника. И я взмою к ветвям, в восходящем потоке проплыву над куполами кленов, над печными трубами и телевизионными антеннами. Над туманом.
Из нижнего ящика секретера — самого дальнего, — из-под учебников английского языка я извлек тетрадь. В тот момент больше всего я боялся, что вот зазвонит телефон, задребезжит дверной колокольчик, кто-нибудь явится, вмешается в мою ненадежную свободу. И я выдернул вилку.
Я писал — замирая, прислушиваясь к себе, к бесстыдным признаниям обнаженного мозга; воздух звенел над головой, в трещинах асфальта росла трава — я слышал и писал; измышление становилось реальностью, а действительность оборачивалась ложью; оболочки опадали; выявлялась сочная суть, вылезая словно бы из-под кожуры банана, — я писал.
Рука не успевала. В кружеве каракулей она запутывалась. Моментами, словно бы выпадая из полусна, я проваливался, — рука замирала над бумагой нерешительно или в облаке невесомых, как след, бессмысленных, как симпатии, утративших связи слов, с отвратительной гладкостью скользила по листу.
Гладкопись можно было преодолеть, только до тошноты переписывая неудачные фразы, упорно возвращаясь опять и опять на заколдованное место, стараясь пронырнуть под ряску и мусор легкодоступных, на поверхности болтающихся штампов, к единственно точным словам, спрятанным в необитаемой и чистой глубине.
Первый рассказ ошеломил меня, оглушил неожиданным освобождением от томления долгих ночей, пустых и рискованных споров, бесцельных и задиристых поисков приключений на вечерних улицах. Примирил с душной прелестью эротических снов. Захватил откровением отчужденности, граничащей почти с равнодушием очень ко многим людям, в чем прежде я не посмел бы сознаться.
Словно в наркотическом сне, под балдой, еще не догадываясь о его мимолетности, я перепечатывал рассказ и наслаждался обладанием мира и обладанием себя. Обладанием собой и миром одновременно, — это было одно. И уже не требовалось идти, кого-то видеть, встречаться. Не хотелось больше мирить моих разбежавшихся родителей. Не требовалось ни дружбы, ни ласки, ничего внешнего — ни жеста, ни движения. Я закончил работу, снова сдвинул машинку на край и опять лег на стол. И в тот миг обладал всем и всеми. И мир помещался во мне…
На другой день я проснулся необычно легким, словно бы расстался с частью себя самого, утратил что-то, безвозвратно потерял. Я не стал умываться и завтракать (впрочем, завтрака не было). Кружилась голова. Меня легко покачивало, словно на палубе забытого ресторана-поплавка. И я вспомнил о Маше, испугался, что долго не видел ее (а прошло два дня). Мир, непривычно четко очерченный, еще вчера такой наполненный, удивлял пустотой: казалось, воздух разрежен, квартира сделалась холодной, неуютной, негодной для жилья, улица предстала мертвой, белесые облака равнодушно пропускали тусклый свет — Бог молчал. Мир был пуст.
На столе лежала жалкая стопка, девять листов, отпечатанных на разбитой машинке с прыгающим неровным шрифтом. С недоумением я начал читать: ни слова правды, события выдуманы, связующая нить — пунктир, персонажи — карикатуры. Но нигде и никому я не смог бы рассказать с большей откровенностью, чем на этих измятых листках, о своей семнадцатилетней коротенькой жизни, от первого почти физического ощущения тепла улыбки матери, до мгновенной и страшной неуверенности перед точкой в конце рассказа — неужели все? Неужели в этом все?.. В этом?