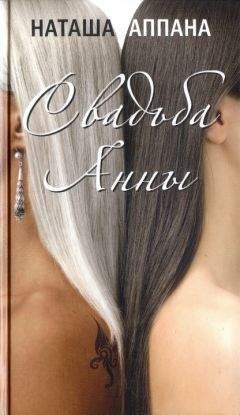И вот сегодня, когда она выглядит в фате такой изысканно бледной, такой француженкой, такой здешней, на этой прекрасной, но нереальной, как глянцевый снимок, церемонии, я боюсь, что она снова станет непохожей на меня, до того непохожей, что нас решат разделить, потому что я — смуглая иностранка. И я проведу всю оставшуюся жизнь в ожидании, пока она спасет меня, заявив всем: «Это моя мама!»
Церемония заканчивается аплодисментами — прямо как хороший концерт. Овации… Ив, он рядом со мной, хлопает в ладоши изо всех сил, того и гляди отобьет, он страшно взволнован. Со всех сторон слышится: «Ура! Ура! Да здравствуют новобрачные!» — я даже и не знала, что в наши дни так бывает. Анна убирает с лица фату, откидывает ее назад, до чего же красивый образовался ореол, гости осыпают молодоженов лепестками роз и рисом. Дочка подходит ко мне, чмокает, меня так и подмывает обнять ее, удержать при себе подольше, но она нужна всем, муж тянет ее за руку, родственникам и гостям тоже хочется поздравить Анну, и я ее отпускаю. Вокруг царит радостная суматоха, и, кажется, даже Ив принимает в ней участие. Он подскакивает на месте, то и дело швыряет цветы, свистит в два пальца, болельщик на футбольном матче, да и только, никогда его таким не видела. Вдруг он поворачивается ко мне, хватает за плечи, притягивает и крепко целует в губы. Вот оно — счастье, нас захватила всеобщая радость, сотворенная этой свадьбой, мы забыли обо всем, стали детьми, мы смеемся как дети.
Да, я тоже смеюсь, я тоже ощущаю себя частицей этого праздника, я ищу глазами воздушный рис — где-то неподалеку должна быть целая корзина, я нахожу ее и делаю, как все: кричу «Урррааа!» и разбрасываю воздушный рис горстями, думаю даже, что я и «Да здравствуют новобрачные!» ору во всю глотку, а когда рис кончается, я принимаюсь бить в ладоши. Анна смотрит на меня и улыбается, совершенно волшебно улыбается моя дочка, ах, какая же она красивая, сердце мое переполняет ни с чем не сравнимая гордость, я ее мама, единственная на свете мама, — и я бешено аплодирую снова. У меня нет по отношению к происходящему ни малейшей иронии, никаких «смешанных чувств», все чисто, все ясно, я не чувствую себя идиоткой, на этот раз тело и дух слились во мне воедино.
Потом новобрачные погружаются в роскошный «ягуар» цвета сливы, чтобы проехаться по окрестностям, а желающим следовать за ними в кортеже предлагают разместиться в других машинах. Ив тянет меня за руку, но я отказываюсь, я хочу остаться тут, пусть даже и Эвелина в своей розовой шляпе, пометавшись туда-сюда, забирается в первый попавшийся автомобиль. Я возвращаюсь на свое место, на лужайке постепенно становится тихо, и тут меня начинают одолевать сомнения. Кажется, я поступила малость по-идиотски: зачем осталась-то? Вихрь счастья, который кружил меня, улетел, и я, воспротивившись ему по доброй воле, сама на себя навесила оковы. Почему я не поехала со всеми? Почему перестала кричать во все горло — так, чтобы и завтра просто даже по голосу было ясно: я радовалась свадьбе дочери? И вот уже, как обычно, меня охватывают сожаления об упущенном моменте, и вот уже мой измученный и изворотливый рассудок выходит на старт, а затем и полностью распоясывается.
Какие-то молодые люди в строгих костюмах здесь же, на лужайке, готовят аперитив: перед свадебным обедом положено выпить по бокалу вина за молодых. Я сижу напротив опустевшего алтаря и думаю, что даже пастор отправился с ними. Смешно! Стараюсь не смотреть в сторону леса, я знаю, что он не очень густой, но с той минуты, как я его увидела, меня к нему тянет, он меня преследует. Я понимаю, что если буду глядеть на лес долго, слишком долго, то встану и пойду туда и зайду далеко, и на этом кончится сегодняшний день. Смотрю в небо — там, мне кажется, плывет такая же тонкая фата, какая была на Анне, мое лицо ласкает свежий ветерок. Слышу шаги и слышу, как кто-то садится на стул позади моего.
— Вы решили остаться здесь?
Это папа Алена, я сразу узнала его голос — как будто мы сто лет знакомы. Я сижу, прислонившись к спинке стула, узел на затылке смят, глаза закрыты. Не отвечаю, и он, наверное, думает, что я задремала, глядя в небо. А ведь правда, после всего этого шума и гама так приятно вслушиваться в мерное дыхание папы Алена, оно меня и впрямь убаюкивает. Он не шевелится. Я прикрываю глаза, небо сквозь ресницы еще больше похоже на фату, на лице — только ласка ветра…
Я медленно поднимаю руку, завожу ее за голову и начинаю одну за другой вынимать бесчисленные шпильки из прически, узел постепенно распадается, распускается, выбираю из волос застрявшие в них зернышки риса, и вскоре волосы — длинные, черные — льются по спинке стула. Долго поглаживаю их — чтобы распрямились и забыли о своем недавнем заточении. Знаю, что он на меня смотрит, но делаю все это не для него. Чувствую, что могла бы сейчас и туфли скинуть, и платье приподнять — пусть ветер освежит ноги. Дыхание за моей спиной остается ровным, но внезапно ощущаю волосами его руку. Нет, он не кладет руку на волосы, он забирается в них, забирается так глубоко, что дотрагивается до моей шеи. Он пропускает мои волосы между пальцами, будто расчесывает, до самых кончиков, один, два, три раза — нежно, ласково, томно, ме-е-едленно, в общем, так, что отвечаю на это там, внизу живота. Невозможно приятное ощущение: по черепу пробегают мурашки, бегут вниз, по шее, по плечам, мои волосы — как шелк у него в пальцах… этих пальцах волшебника, чародея… Я медленно поворачиваюсь к нему, у него на лице отрешенность, глаза смотрят в пустоту… От него ко мне, от меня к нему плывет желание, нас окружает коконом что-то, чего не назвать словами, но что придает смысл этому дню, которого я так боялась.
— Какая вы красивая с отпущенными на свободу волосами.
Он не говорит — «с распущенными волосами», он говорит — «с отпущенными на свободу». Галстука на нем уже нет, наверное, в карман затолкал, ворот рубашки расстегнут, и я вижу родинки. Три маленькие родинки прямо под левой ключицей. Брошенные на тело, как зернышки риса, рассыпанные, потерянные, ожидающие, пока кто-то их подберет, приласкает, поцелует… И думаю, глядя на них, что отдала бы все без остатка, чтобы посмотреть, есть ли у него на теле и другие, и что еще до того, как закончится свадьба Анны, мы с этим мужчиной будем любить друг друга.
Нет, это не было решением, которое я приняла, не было целью, которую себе поставила, или вызовом, который себе бросила, — это не я, это мое тело мне нашептало, спокойно, словно констатируя очевидное. Я забыла про Анну, забыла, что обещала ей весь сегодняшний день вести себя достойно и прилично. Я не знаю, как за это взяться, да и не думаю о том, как за это взяться, я просто знаю, что сделаю это, и все. В моей жизни редко случается такая уверенность. Я уверена, что мне надо писать, я уверена, что люблю Анну, но все остальное я делаю без всякой уверенности и до сих пор ни про что, пожалуй, не сказала бы «голову даю на отсечение», так ведь говорят, когда уверены в себе… И я думаю, что однажды кто-нибудь поймет, что я всего лишь самозванка, что писать не умею, воспитывать ребенка не умею, хозяйничать не умею, удержать мужчину не умею, что у меня нет собственного мнения, и все это пустое… А когда обнаружится, что все — сплошной маскарад, от меня останется лишь видимость женщины со смуглой кожей и черными волосами, затерянной в городе, не имеющей цели, мыслей, детей, книг.
Все, что я сейчас имею, висит на ниточке. Анна? Она уходит, она уже ушла, так ведь? Книги? Они немного стоят. Я не умею написать великую сагу, которая продавалась бы в миллионах экземпляров, которую бы экранизировали и от автора которой ждали бы бесконечных продолжений. У моих книг успех очень умеренный, почти одинаковый у всех, такой… как будто бы за мной тянется, не подпуская ближе просто любопытных, шлейф из верных мне читателей, ангелов-хранителей, приберегающих меня для своего удовольствия. Мои читатели? Простые и скромные люди, как я сама.
Я часто хожу на лекции, круглые столы, встречи с теми авторами, которых люблю, и всегда удивляюсь тому энтузиазму, с которым на них потом налетают читатели, и обнимают, и берут за руку, и с кем-то знакомят, и несут всякую чушь, а потом громко хохочут, и шутят, и обмениваются с ними телефонами, и обещают позвонить, и приглашают где-нибудь посидеть, поужинать вместе. Со мной все по-другому. Люди, которые меня слушают, слушают очень внимательно, я не тороплюсь — и они не торопятся, я даю им время — и они мне. Потом они подходят, чтобы я подписала им книги, приносят с собой другие, вышедшие раньше, они разговаривают шепотом, никогда не лезут со мной целоваться, и мы никогда не шутим, мы обмениваемся не адресами, а рукопожатиями, и они уходят, спрятав книжку. Между нами словно бы существует невидимая граница, которую никто из нас не переступает, стыдливость это или сдержанность, не знаю, я женщина, пишущая книги, которые им нравится читать, акцент тут на слове «книги», а не «женщина».