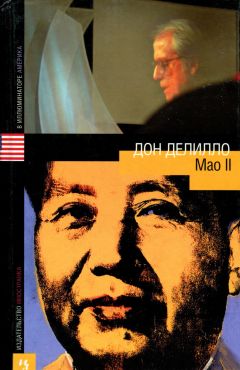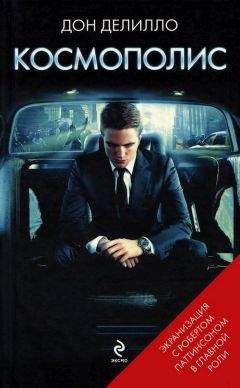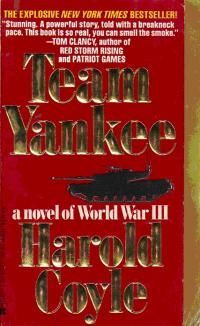- Ты уехала не попрощавшись. Хотя я не поэтому звоню. Мне не спится, тянет с кем-нибудь поговорить, но звоню я опять же не поэтому. Знаешь, как чудно сидеть и разговаривать с механизмом? Чувствуешь себя включенным телевизором в пустой комнате. Играешь спектакль перед пустым залом. Брита, по твоей милости я познакомился с новым видом одиночества. Брита, как приятно произносить твое имя. Одиночество оттого, что я знаю: меня не услышат еще несколько часов или дней. Наверно, ты постоянно проверяешь голосовую почту. Из самых далеких стран получаешь доступ к памяти автоответчика. "Получать доступ" - выражение для террористов. Если я ничего не путаю, для этого требуется секретный пароль. Набираешь пароль на клавиатуре в Брюсселе и взрываешь здание в Мадриде. Вот мерзкая мечта, которой служит технология удаленного доступа. Сижу тут в своем плетеном кресле, смотрю в окно. Птицы проснулись, и я вместе с ними. Еще одна растянутая, докуренная до самых пальцев заря, опять во рту все горит, но бывало на моем веку и похуже. Вчера вечером, когда ты уехала, я больше не пил. А теперь говорю медленно, потому что нет ощущения слушателя, даже молчащего слушателя, а молчание бывает разное, чертова дюжина видов, напряженное, нетерпеливое, скучающее, обиженное, и я чувствую себя довольно неловко, произнося речи перед отсутствующим другом. Надеюсь, мы друзья. Но я не поэтому звоню. Мне все чудится, что мой роман шляется здесь по коридору. Вот он, еле ковыляет, вообрази-ка голого горбатого уродца с обкорнанными гениталиями, на редкость отвратительного, ко всему прочему на макушке у него шишка, как у химеры, из уголка рта рваным лоскутом свесился язык, а ноги - вообще страх божий. Он все ластится ко мне, хочет прижаться, прилепиться. Кретин, выродок. Распухший от воды, слюнявый, в мокрых штанах. Я говорю медленно, чтобы ничего не переврать. В конечном итоге роман - мой, и я отвечаю за то, чтобы привести его в надлежащий вид. Одиночество голосов, хранящихся на кассете. К тому времени, как ты это услышишь, я и сам забуду, чего наговорил. К тому времени я буду давнишним сообщением, похороненным под множеством новых. Техника превращает в сообщения все на свете, это сужает спектр жанров, убивает всю поэтичность понятия "никого нет дома". Дом - отжившее понятие. Больше нет такого - "я дома" или "никого нет". Люди просто берут или не берут трубку. Что мне неловко, я приврал. Наверно, так с тобой даже легче говорить. Но я не поэтому звоню. Я звоню описать рассвет. Блеклый свет жидкой кашей расползается по холмам. Небо частично затянуто облаками, и потому кажется, будто свет льнет к земле, свет тихий, рассеянный, спокойный, нежный, скорее болотный огонь, чем сияние небосвода. Ну, думаю: о таком тебе захочется послушать. Думаю: этой женщине такое куда интереснее, чем всякое разное, что ей попытаются сообщить другие. Гряда облаков длинная, иссиня- серая и вообще замечательная. Больше о ней сказать нечего, честно. Окно открыто, и я чувствую вкус воздуха. Похмелье меня не так уж мучит, и свежесть воздуха не кажется упреком. Воздух замечательный. Воздух - то, что надо. Я сижу в своем старом плетеном кресле, положив ноги на скамью, спиной к пишущей машинке. Птицы замечательные. Мне их слышно с ближних деревьев и издалека, с полей, на полях вороньи стаи. Воздух холодный, обжигающий, замечательный и пахнет именно так, как ему положено пахнуть ранним весенним утром, когда человек разговаривает с механизмом. Ну, думаю: вот о чем эта женщина захочет услышать. Он пытается за меня уцепиться, влажный на ощупь, тонкокожий, пытается прилепиться своими сморщенными присосками к моему телу.
Автоответчик прервал его, отключившись.
Она почувствовала: за спиной, совсем рядом, стоит Скотт. Он прижался к ней, возбужденный и сонный, обхватил. Руки, пальцы… вот он подцепляет ремень, на котором держатся ее джинсы. Она прислонилась затылком к его плечу, сосредоточилась, он приник еще теснее. Она зевнула, потом рассмеялась. Он запустил руки ей под свитер, расстегнул ее джинсы, провел ладонями по животу. При каждом касании - тревога, настороженно вздрагивает все тело. Он задрал ей свитер до плеч, потерся щекой о ее спину. Она сосредотачивалась - так вслушиваются в звуки в толще стены. Чувствовала все, что происходит. Задумчиво выжидала, дыша старательно и ровно; неспешно повела плечами, почувствовала спиной дрожь его шершавой, как наждак, щеки.
Она знала: он не проронит ни слова, даже когда будет взбираться по лестнице, воздержится даже от избитых шуточек про лестницу; и была рада молчанию, благодарна тактичному мальчику, который, бледный и поджарый, с тихим стоном совершал восхождение по ее телу.
В самой гуще пробки Билл распахнул дверцу - впустил внутрь едкую вонь раскаленного металла, - выскочил, зашагал прочь. Скотт кричал вслед, чтобы он подождал, чтобы остался, чтобы смотрел по сторонам. Билл пробирался между намертво застрявшими такси; в затемненных салонах клевали носом водители - прямо как заключенные, коротающие дни за просмотром телесериалов. Скотт истошно прокричал, где и во сколько они встречаются. Билл не оборачиваясь помахал в ответ, замешкался на краю единственной полосы активного движения, пока в череде машин не выдался просвет.
Всё куда-то мчится, не успеешь разглядеть, как ускользнуло; сомнительный шик авеню, оживленная толкотня у магазинов, разложенные на тротуаре бусы, глубокая река отражений: в окнах летают головы, на дверцах такси плещутся жидкие небоскребы, фигуры подрагивают и вытягиваются, - занятно, как все это не позволяет себя комментировать, а просто налетает на тебя с размаху, точно твой первый день в Джелалабаде, налетает и становится фактом. И наотрез отказывается намекнуть, чего от тебя ждет. Что ж, Билл впервые за много лет оказался в Нью-Йорке, и нет здесь ни одной улицы, ни одного здания, которые ему хотелось бы увидеть снова, никаких призраков минувшего, пробуждающих тоску или светлую печаль.
Отыскав нужный дом, он вошел в вестибюль и приблизился к овальной стойке, где среди телефонов, экранов и дисплеев сидели два охранника - мужчина и женщина. Он назвался, подождал, пока женщина сверялась со списком посетителей на дисплее. Задав ему несколько вопросов, она куда- то позвонила, и через минуту появился мужчина в форме, которому предстояло проводить Билла на нужный этаж; получив на стойке гостевой пропуск - квадратный кусок самоклеящейся бумаги, он тут же налепил его Биллу на лацкан пиджака.
Перед лифтами был еще один пункт проверки, но их пропустили без задержек. Экспресс- лифт вознес их на самый верх здания; когда двери раздвинулись, на площадке уже ждал Чарли Эверсон в пестром галстуке. Он взял Билла за плечи, испытующе заглянул в лицо. Ни тот, ни другой не произнесли ни слова. Затем Чарли кивнул охраннику и повлек Билла в дверь в глубине приемной. Они проследовали по длинному коридору, увешанному книжными обложками в рамах, и вошли в просторный солнечный кабинет, где уживались полированное дерево и разнообразные образцы флоры.
- Где твой "Бушмиллз"? - спросил Билл. - Сейчас бы глоток солодового - в самый раз
- Я теперь не пью.
- Но в шкафу сколько-нибудь держишь для гостей-писателей.
- Только "Боллигоэн". Минеральная вода такая.
Билл пристально посмотрел на редактора. Затем сел и развязал шнурки - ботинки на Билле были новые, тесноватые.
- Билл, прямо не верится.
- Еще бы. До чего же быстро, до чего же странно, море воды утекло.
- Ты на писателя стал похож. А раньше не походил ни чуточки. Сколько лет понадобилось. Пиджак какой-то знакомый.
- Да он, кажется, твой.
- Неужели? Это когда Луиза Уигенд надралась и стала насмехаться над моим пиджаком.
- И ты его снял.
- Мало того, что снял, - на пол бросил.
- А я сказал, что мне нужен пиджак, и правда был нужен, а она сказала - или кто-то еще сказал: "Возьми этот".
- Не я. Я этот пиджак любил.
- Добрый старый твид.
- Сидит на тебе не очень.
- Я его раза четыре надевал, не больше.
- Надо же, отдала тебе мой пиджак.
- На чужое Луиза никогда не скупилась.
- Она умерла, знаешь.
- Чарли, не начинай.
- Что слышно от Хелен?
- Кстати о мертвых? Ничего.
- Хелен мне всегда нравилась.
- Что ж ты на ней не женился? - сказал Билл. - Уберег бы меня от уймы проблем.
- Проблема была не в ней. Проблема была в тебе.
- Один черт, - сказал Билл.
Широкое лицо Чарли заливал здоровый румянец - дар ветра, особая примета яхтсмена. Жидкие белесые волосы, короткая стрижка. Сшитый на заказ костюм. Пестрый галстук - дань традиции, символ неистребимой студенческой беспечности, напоминание, что перед нами все тот же Эвви, а его занятие - все еще издание книг, а не мировая война с использованием лазерных технологий.
- Те времена так и стоят у меня перед глазами. Картина постоянно обогащается. Память то и дело подкидывает что-нибудь новенькое. Вдруг всплывают целые куски из разговоров пятьдесят пятого года.